Минюст объявил писательницу Линор Горалик «иноагентом». Недавно у нее вышел роман о слоне, который идет по России 2022 года: в оренбургский бункер из Стамбула через Ростов, Рязань и Калугу.
«Новая-Европа» поговорила с Линор о ее способах «выживать в реальности».
— Как вы отреагировали на «иноагентский» статус? Как вы о нем узнали и как отреагировали?
— Я узнала об этом в пятницу вечером, как и все. Это стало для меня неожиданностью, поскольку я не гражданка России (у Линор гражданство Израиля. — Прим. ред.), и этот статус применительно ко мне звучит довольно абсурдно. Первая моя реакция была простой: я поняла, что все люди, который со мной теперь работают, стали «третьими лицами» (4 августа 2023 года в закон об «иноагентах» были внесены поправки, запрещающие «третьим лицам» в России оказывать содействие «иноагентам». Нарушителям грозит штраф до 50 тыс. рублей для физических лиц и до 300 тыс. рублей — для юридических. — Прим. ред.). У меня два запрещенных проекта в России: ROAR (журнал Russian Oppositional Arts Review выходит с марта 2022 года. — Прим. ред.) и «Новости-26» (ежедневный новостной проект для подростков от 12 лет. — Прим. ред.). За людей, которые оказывают мне честь, работая в этих проектах, я, конечно, и так тревожусь очень сильно, а уж теперь… Я поговорила с командами обоих проектов — и, к моему восхищению, мои коллеги решили, что продолжают со мной работать. Моя благодарность им безмерна.
— И как раз только что вышел девятый выпуск ROAR.
— Да, несколько минут назад.
— А как вы думаете, почему вдруг вас признали «иноагентом» именно сейчас? Просто случайно в папочке попалось имя? Или антивоенные посты в соцсетях привлекли внимание?
— Я привыкла не пытаться объяснить логикой то, что можно объяснить случайностью. Я не думаю, что есть какой-то злой умысел в специфике конкретного момента, — кроме того злого умысла, который вообще стоит за объявлением людей «иноагентами».

Линор Горалик. Фото: Facebook
— Вы говорили, что с ноября 2021 года не были в России. Сейчас как будто это стало еще сложнее.
— Ничего не изменилось, я так или иначе не собиралась въезжать в Россию при этом режиме. И вообще моя жизнь — я-то живу в Израиле, — фантастически мягка по сравнению с жизнью других иноагентов, остающихся, например, в России, продолжающих свою антивоенную и антирежимную работу и тем самым подвергающих себя постоянной опасности. Я преклоняюсь перед ними. А у меня всё хорошо.
— Вы работаете маркетологом. При этом вы рассказывали, что стараетесь разделять свою работу и творчество. А узнали ли клиенты о вашем «иноагентстве» и как отнеслись?
— Мои клиенты вне России просто сказали, что беспокоятся обо мне и что они готовы всячески помогать, если мне потребуется какая-то помощь. А клиенты в России у меня — НКО и образовательные проекты. Они люди схожих со мной взглядов, и тоже сказали, что им абсолютно наплевать. Я очень благодарна им. Могло быть совсем иначе.
— Проекту ROAR уже полтора года. Можете подвести некий итог этих 18 месяцев? Выполняет ли он свою функцию, как вы ее задумывали?
— Мы продолжаем выходить, и это самое печальное, что может быть. Мы будем выходить до тех пор, пока это имеет смысл, а имеет смысл это, пока имеет смысл делить русскоязычную культуру, среди прочего, на оппозиционную и сервильную. То, что нам приходится выходить, — плохой и о многом говорящий факт.
Мы очень надеялись, что ни до какого девятого номера дело не дойдет. Мы были наивны. Сейчас мы делаем десятый номер, и есть чувство, что он будет не последним.
Конечно, страшно, что ROAR растет. Нужно помнить, что это полностью волонтерский проект, в котором задействовано больше двухсот человек, — редакторов, верстальщиц, переводчиков, корректоров, дизайнеров, — и это не считая авторов. В журнале появляются новые блоки: скажем, в девятом номере впервые вышел блок переводов современной поэзии. Растет количество авторов, которые присылают нам свои работы. Количество художников, писателей, поэтов, саунд-артистов, которые испытывают сильные отрицательные эмоции по поводу войны и политического террора в России. Этих людей больше и им нужны площадки. Прекрасно, что нам удается быть такой площадкой, но в ней в принципе не должно быть потребности. Мы — симптом. Признак болезни. И это ужасно. ROAR не должен существовать.
— И виртуальные выставки тоже?
— Мы проводили онлайн-выставку арт-работ после выхода четвертого номера ROAR. Сейчас готовимся делать еще одну выставку, после десятого номера. К Новому году мы готовимся делать релиз саунд-работ, которые выкладывали на сайт. Мы делаем это, потому что хотим, чтобы голоса наших авторов были слышны. Но причины, по которой мы существуем, не должно быть.
— Как в среднем изменилось самоощущение авторов? Прошел ли шок первых месяцев войны?
— Не очень хочется оценивать среднюю температуру по больнице, тем более что у нас есть как постоянные авторы, так и авторы, которые публикуются впервые. Но если всё-таки говорить об этом, мне кажется, что люди учатся жить с реальностью войны. Они начинают осознавать, что эта чудовищная война не закончится завтра. И авторы, которых я читаю благодаря ROAR, задаются вопросом, как жить с этим пониманием, избегая привыкания. Мне кажется, это один из самых острых вопросов, который встает прямо сейчас перед многими из нас. Как жить, понимая, что это будет продолжаться, но не привыкая к этому.
— Вы по-прежнему получаете очень много работ на рассмотрение?
— Сейчас всё-таки стали более прицельно присылать работы. Наверное, многие авторы теперь лучше, чем в начале, понимают, о чем ROAR и какие типы работ нас интересуют. Раньше мы получали огромное количество текстов, не связанных с темой журнала. Например, приходило много лирики, много работ, которые не были связаны ни с политической, ни с военной повесткой. А сейчас уже авторы понимают, что мы — не просто литературный журнал, а нечто более узконаправленное.
— Параллельно у вас есть еще один проект, «Новости-26», — в нем вы рассказываете свежие новости так, чтобы было понятно подростку. «Новостям» тоже полтора года. Это телеграм-канал и еженедельный подкаст. Получается ли достучаться до подростков?
— До каких-то, кажется, да. Они читают нас и слушают, пишут нам, взаимодействуют с нами. Это всегда сильное впечатление, потому что телеграм-канал обычно, мне кажется, ведется в целом в никуда, — обратная связь там очень условная. Но мы всегда давали почтовый адрес и получали письма. Сейчас мы сделали бот обратной связи, и это поразительно: нам пишут живые люди, и впечатление бывает страшное. Мы привыкли считать, что оппозиционно мыслящие взрослые в России лишены прав и свобод.
Но редко думаем, мне кажется, о том, насколько на самом деле плоха ситуация со свободомыслием в России, пока не ставим себя на место оппозиционно мыслящего подростка.
Поверьте, у взрослых всё зашибись по сравнению с ним. Мы можем говорить с единомышленниками, мы можем писать посты в соцсетях, мы можем уехать из страны, мы можем не общаться с людьми, которые нам глубоко противны. Мы можем сменить работу, например. Подросток же, которому отвратительна «зигующая» повестка, не может ничего. Он не может заткнуть уши в школе, не может уйти из семьи, не может уехать из страны. Он не может говорить ни с кем, потому что это опасно. Подросток по-настоящему бесправен, он живет в аду и не может никуда деться. Это человек, которому ужасно тяжело. И когда они пишут нам об этом, у меня разрывается сердце. Мне кажется, мы думаем об этой стороне происходящего чудовищно мало.
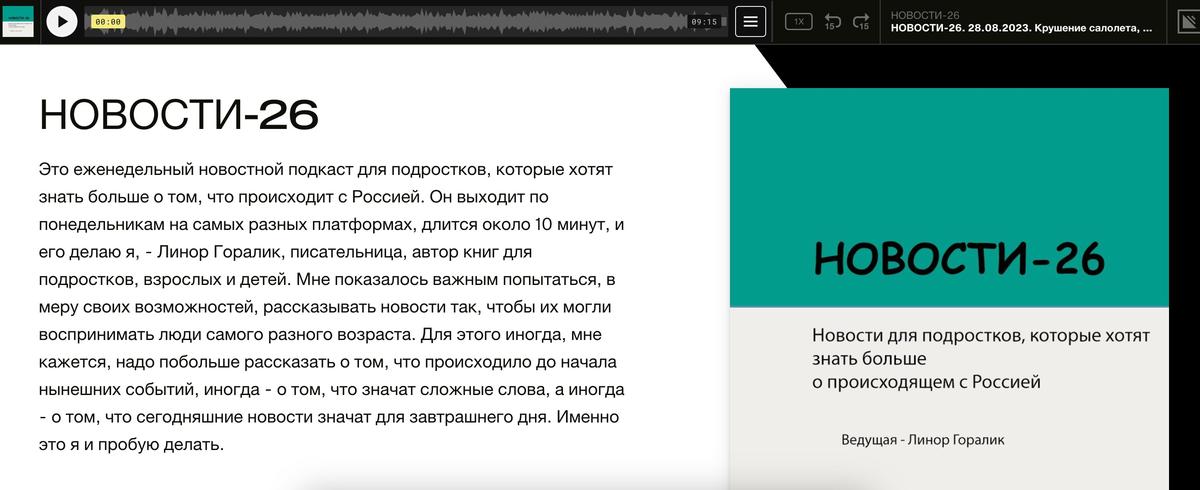
Главная страница сайта «Новости-26». Скриншот
— А что пишут в качестве обратной связи?
— Самый яркий пример — письмо, которое нам написал четырнадцатилетний подросток. Он писал, что живет в закрытом городе, его папа — военный. Он ненавидит пропаганду, то, что ему говорят в школе, то, как живут его родители. И он хотел что-то делать и спрашивал, что ему делать. Я ответила, что сейчас пишу ему письмо, за которое мне будет стыдно всю жизнь, — но всё, что я могу ему сказать: «Продолжайте делать то, что вы делаете сейчас: читайте и думайте. Потому что ваша безопасность мне дороже, чем любые другие соображения». Он ответил мне, что страшно благодарен за то, что я отозвалась. Он не думал, что кто-то будет с ним говорить. И что он понимает, что я имею в виду. Но мне всё равно дурно от того, что я написала. Потому что когда я думаю о любой свободной стране, в которой подросток в 14 лет хочет быть политически активным, — весь мир перед ним, все возможности перед ним. А что делать, если тебе 14 лет, ты сын военного и живешь в закрытом городе в России?..
Через полгода он написал мне еще раз и сказал, что его взгляды не изменились и он хочет хотя бы задонатить денег в Украину. Я ему написала, что сделаю это за него, что мой следующий донат будет символически и от его имени. Он согласился — и это всё, что можно было сделать.
Другой пример: мальчик, который написал мне, что его родители за войну, в школе бесконечные «разговоры о важном» и промывание мозгов, и он не знает, куда деваться. Пишешь ему: «Просто держитесь, это рано или поздно закончится, старайтесь заботиться о своей безопасности и, ради бога, будьте осторожны с тем, что вы говорите и кому», — а что еще написать? (У нас, кстати, есть программный текст под названием «Говорить или молчать?», где мы стараемся объяснять одну простую вещь: если ты не стал бы говорить с человеком о своей личной жизни, не говори с ним и о политике тоже). Почему ты так отвечаешь? Потому что ты понимаешь, что если, например, он доспорится с родителями до упора, то куда ему идти? На улицу в 12 лет? Дальше что?
И это действительно жизнь в аду. По сравнению с тем, как живут оппозиционно мыслящие подростки, у нас, взрослых, всё еще очень хорошо, на мой взгляд.
— У вас и слон Бобо в последнем романе — подросток, ему 16 (слоны живут 70 лет). Вы сознательно решили, что сделаете его подростком?
— Да, потому что это люди, ради которых я работаю каждый день, для которых я стараюсь каждый день писать книжки, с которыми поддерживаю связь. Мне было важно дать им какой-то голос в романе. У нас в ROAR есть 17-летние и 18-летние авторы, и мы стараемся беречь эти голоса: предоставлять им платформу, заботиться о том, чтобы им комфортно было с нами работать.
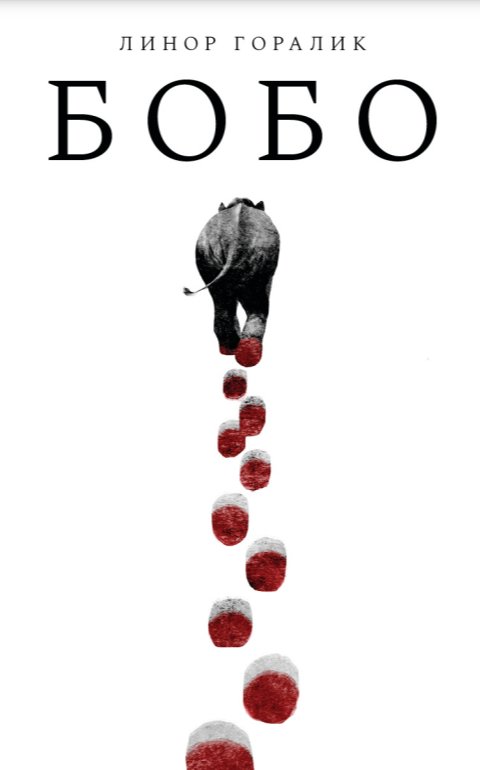
Обложка книги Линор Горалик «Слон Бобо»
— У Бобо есть такая эволюция: он сначала поддерживал действия России, считал себя будущим боевым слоном на службе русского царя. А потом, когда посмотрел реальную жизнь в России, поменял свое отношение к происходящему. Наблюдаете ли вы подобное изменение сейчас: что те, кто был за войну, изменились за эти полтора года?
— Я не чувствую себя вправе об этом рассуждать, — у меня ведь очень маленький круг общения, «пузырь». Я сомневаюсь, что на «Новости-26» подписываются подростки, которые «за войну», чтобы мы их переубедили. Я надеюсь на то, что идеализм младшего поколения, как всегда, перемешивается со скептицизмом. Потому что проверять то, что тебе говорят, — это очень важно. Идеализм подростка — вещь, мне кажется, двойственная: он построен на смеси недоверия и желания доверять. Как эта смесь сработает сейчас, я себе не представляю. Только время покажет — и мы узнаем, что подростки думают на самом деле, когда они смогут не будут бояться говорить в публичном пространстве. Я уверена, что мы до этого момента доживем, — и узнаем, что у них происходило всё это время в сознании, в сердце и в голове.
Я часто вообще напоминаю себе, что не знаю, о чем сейчас люди думают в большинстве своем. Мне кажется, сейчас любой человек, который пытается говорить о том, что происходит в умах у людей в России, обманывает или себя, или других. Потому что нельзя верить тому, что люди говорят публично, — они попросту боятся говорить публично. Неважно, где находится рассуждающий о массовых умонастроениях; важно, что объекты его рассуждения, — люди, живущие в России, — насколько я понимаю, в большинстве опасаются высказываться свободно. И опасаются они, на мой взгляд, не политического преследования со стороны властей (хотя и его тоже, потому что штрафы и посадки за посты — не шутка). Они опасаются давления собственной социальной группы. Мне кажется, что недоверие друг к другу тоже становится очень важной темой.
За пределами определенного узкого круга война и политика становятся фигурами умолчания даже в близкой социальной среде, если я правильно понимаю. О них просто не говорят, чтобы не сказать лишнего.
— Роман должен был выходить в России, но вы выпустили его в открытый доступ — вы сказали, что беспокоитесь о безопасности сотрудников издательства. А почему не издать где-то за рубежом?
— Мне показалось неэтичным переводить книгу из издательства в издательство. Я страшно люблю издательство, с которым планировала работать. Мы даже с ними месяц подождали чуда. Я сказала им: «Друзья, вы мне дороже, чем книжка, не хочу, чтобы с вами что-то произошло», — и они мне ответили: «Давайте подождем месяц, вдруг произойдет какое-то чудо, и вся эта хуйня рухнет». Книга уже была сверстана, готова, только обложка оставалась, и мы тридцать дней ждали: вдруг произойдет какое-нибудь чудо. Но чуда не произошло, и я роман выложила в свободный доступ, как мы и договаривались с издательством.
— В ваших текстах много животных. В «Имени такого-то» есть говорящая лисица, во «Всех, способных дышать дыхание» герои — говорящие животные. Бобо в последнем романе — мыслящий слон. Во всех этих книгах сюжет либо связан с войной, либо разворачивается после войны. Почему животные и война у вас так связаны?
— Видимо, у меня какая-то обсессия. Она связана с темой сострадания для меня. И еще я думаю, что не бывает историй про войну без историй насилия над животными. «Все, способные дышать дыхание» началась для меня с того, что я узнала об истории зоопарка в Калининграде: во время боев там погибли почти все животные. Меня это совершенно потрясло, — как потрясают нынешние истории про животных, гибнущих в украинских зоопарках, и не только в них. Во время Каховской катастрофы погибли тысячи животных. Я понимаю, что это история про оптику: кто что умеет видеть, тот это и видит. Истории, связанные с войной и животными, у меня вызывают адскую боль и адскую жалость. Это примерно как с подростками: мы не думаем, как тяжело им живется. Тут есть кто-то, кто переживает ту же катастрофу, что и мы, только он еще несчастнее, бесправнее нас, обладает еще меньшими ресурсами, чем мы, — но страдает так же, как мы, и мы не думаем о нем. Мы его не видим. У меня лежит потрясающая книга, которая называется «По закону великой любви», — об истории московского зоопарка во время Второй мировой войны. Это одна из самых страшных книг, которые я читала в свой жизни.
Когда в Израиле бомбардировки, я не хожу в бомбоубежище, потому что моя собака Бублик нервничает, и я не могу запихнуть его в шлейку, — а без собаки я, естественно, никуда не пойду. И таких людей очень много. Моя подруга в Харькове (я не в коем случае не сравниваю наши ситуации, конечно!) не ходит в бомбоубежище, потому что не может отнести туда кота. Он нервничает от сирен и не идет в переноску. Таких людей огромное количество. Это иногда не очень понятно людям без животных, но очень понятно людям с животными.
— Россия ведет войну и одновременно ликвидирует экологические инициативы, фактически разрешает истреблять бездомных животных, — это звенья одной цепи?
— Это отсутствие эмпатии. Войну, трансфобный закон и зооненавистнические законы объединяет то, что их могла бы вводить оккупационная власть. Они расчеловечивают тех, на кого направлены, из них изъята человеческая составляющая. Это немыслимо страшно.

Линор Горалик. Фото: Facebook
— Вы рассказывали, что некоторые романы вы забываете после того, как их издали. С «Бобо» так же получилось или вы следите за его судьбой?
— Нет, абсолютно точно так же. Он сделал для меня очень важное дело, но я уже не помню текст практически, хотя, конечно, помню канву. Я пишу пять книг сейчас на двух языках: три книги на иврите и две на русском. Они занимают меня так сильно, что всё остальное остается позади. Сложно думать о том, что уже состоялось.
— Что это за книги?
— На иврите: роман «Другая земля: краткая история государства Хирут в 30 объектах», сборник сквозных рассказов «Я думаю, что я чувствую» и «Стихи о родине в реальном времени». На русском я, с одной стороны, заканчиваю детский нон-фикшн «Про СССР», а с другой стороны — только что начала писать книгу, жанр которой я затрудняюсь определить. Она называется «Тетрадь Катерины Суворовой». Это полностью вымышленный персонаж, она была одной из прихожанок Бумажной церкви города Тухачевска. У меня в голове есть город Тухачевск, в нем в 1970–80-е годы была Бумажная церковь, и Катерина Суворова ее посещала. Думаю, что если я выживу, пока эту книгу пишу, это будет первая книга в моей жизни, по которой я не смогу дать ни одного интервью и ни одного комментария. Она настолько личная, что я не представляю себе, как о ней можно будет говорить. Но мне надо ее написать, и я попытаюсь это сделать, а там посмотрим.
— Расскажите про «Эрец Ахерет» («Другую землю». — Прим. ред.) — о чем это и о каких тридцати объектах идет речь?
— Это сатирический роман о том, как трое молодых ребят, — биохимиков и биотехнологов, — в 2033 году создают бактерию, которая может перерабатывать пластик в почву. Используя мусор, плавающий в океане, они создают второе еврейское государство, — оно называется Хирут.
Книга притворяется, что она нон-фикшн: это краткая история Хирута за первые пятьдесят лет его существования.
Его пишет человек по имени Даниэль Петровский, — отпрыск огромной семьи Петровских, которая живет в моей голове и появляется в моих книгах. Петровский был одним из трех ребят, которые основали Хирут. Это книга о том, как израильские левые решили создать свое государство (у нас сейчас правое правительство, и всё довольно плохо). А в этой книге левые пытаются сделать так, чтобы всё было хорошо в одной отдельно взятой стране. Роман построен по принципу «одна глава — один предмет», игравший определенную роль в истории страны. Заканчивается роман в тот момент, когда к власти в Хируте приходят правые, несмотря на все идеалы, с которыми государство строилось. Потому что выросло два новых поколения и увидело, во что превращается страна, если у нее есть любая намертво заданная идеология, даже ультралиберальная.
Мы с моими издателями в России договорились, что, когда я переведу «Эрец Ахерет» и допишу «Катерину Суворову», то, если им понравятся мои книжки, они их издадут в моем же переводе.
— Как писать пять книг одновременно?
— Это история не про то, как надо, а про то, что они завелись у меня в голове одновременно, и я не могу иначе. Они пишутся — вот я их и пишу. Еще потихоньку складывается огромная работа, визуальная, которая называется «Осада Рая». К моему ужасу, речь идет где-то о десяти квадратных метрах. Она в очень-очень кропотливой технике сделана: поверх акварели кладется мелкая прорисовка гуашью, а поверх гуаши — линер. Я думаю, что работа займет года три, но я тоже занимаюсь ею каждый день. Еще потихоньку движется дело с «Театром одного стола», маленьким моим кукольным театром. Я делаю кукол и дописываю для них пьесу — о том, как интеллигентная семья в Москве просыпается утром и обнаруживает, что их шестилетний сын стал Z-патриотом. Он им звонко объясняет, что надо бороться с «укронацистами». И они понимают, что их обожаемый сыночка одержим дьяволом, — в буквальном смысле слова. Кукол очень много — в пьесе около 40 персонажей; я их потихоньку доделываю и готовлюсь делать спектакль. Словом, всё как-то движется, только голова пухнет.
— Такой способ справиться с эмоциями?
— Это способ выживать в реальности, в которой от новостей хочется выть. Причем от новостей сразу о двух странах: в Израиле всё тоже, как вы, наверное, знаете, не блестяще. Плюс работа — это способ справляться с хронической болью: я очень боюсь оставаться с ней наедине. Работа, словом, помогает.
— Израиль сейчас стал ближе к тому, что представляет собой Россия?
— Я собираюсь писать колонку в одно из крупных израильских изданий о том, что параллели есть, потому что у консервативных реформ есть некоторые общие законы, — но есть, конечно, и огромные различия, и сравнивать происходящее в Израиле с происходящим в России можно только очень, очень осторожно. Да, сходства меня пугают, и пугают сильно, но они далеко не поверхностны, а различия очень велики. Я верю, что Израилю удастся выстоять и остаться демократическим государством с демократическими принципами. Хочется надеяться, что я не обманываю себя, когда это говорю.
— За счет государственных институтов или гражданского общества?
— За счет гражданского общества, да. Лягушечку здесь попытались нагреть очень быстро, и лягушечка взбесилась и охренела.
— Не прервалась ли связь у вас с Украиной за последние полтора года?
— Нет, что вы! И за время войны у меня появились новые потрясающие друзья в Украине. Недавно ко мне приезжала близкая подруга. Очень за них страшно, и чувство беспомощности совершенно невыразимое.
— У вас есть известный афоризм «Жизнь бессовестнее литературы». Во время мятежа Пригожина один репортер записал разговор по телефону одной ростовчанки, которая сказала: «Слава богу, не началась война!» А во время последней атаки на Крымский мост одна из свидетельниц взрыва на видео сказала: «Хорошо, что мы в пробке задержались». А зачем нужно искусство, литература и так далее, когда жизнь не переплюнуть в абсурде?
— Может быть, и низачем. У нас столько претензий к соцсетям, но, по-моему, это в некотором плане лучшее, что произошло с нами как с цивилизацией. Мы получили такое количество свидетельств реальной жизни… Я большой фанат устной истории, и вот мы получаем устную историю в письменном виде. Как цивилизационное достижение это ни с чем нельзя сравнить. Я не знаю, как фиксировать, отбирать, хранить то, что появляется в соцсетях, — перед нами встает миллион вопросов, и одной из задач, которой могли бы заняться ИИ-специалисты, могла бы стать, наверное, задача по вычленению и архивированию свидетельских постов из соцсетей в рамках определенного запроса.
Литература вообще никогда не переплюнет жизнь, потому что, на мой взгляд, свидетельство важнее самого важного романа.
Я очень мало пишу в соцсети не про работу (а с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину — вообще, кажется, ничего), но очень много читаю чужие записи. И это чтение принципиально важно для меня.
Я запрещаю себе забывать, что мои собственные тексты — это, в первую очередь, форма рефлексии, они нужны мне и делаю их для себя. Тот факт, что кто-то еще их читает, — это огромный подарок, но не сверхцель.
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.
Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]
Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».

