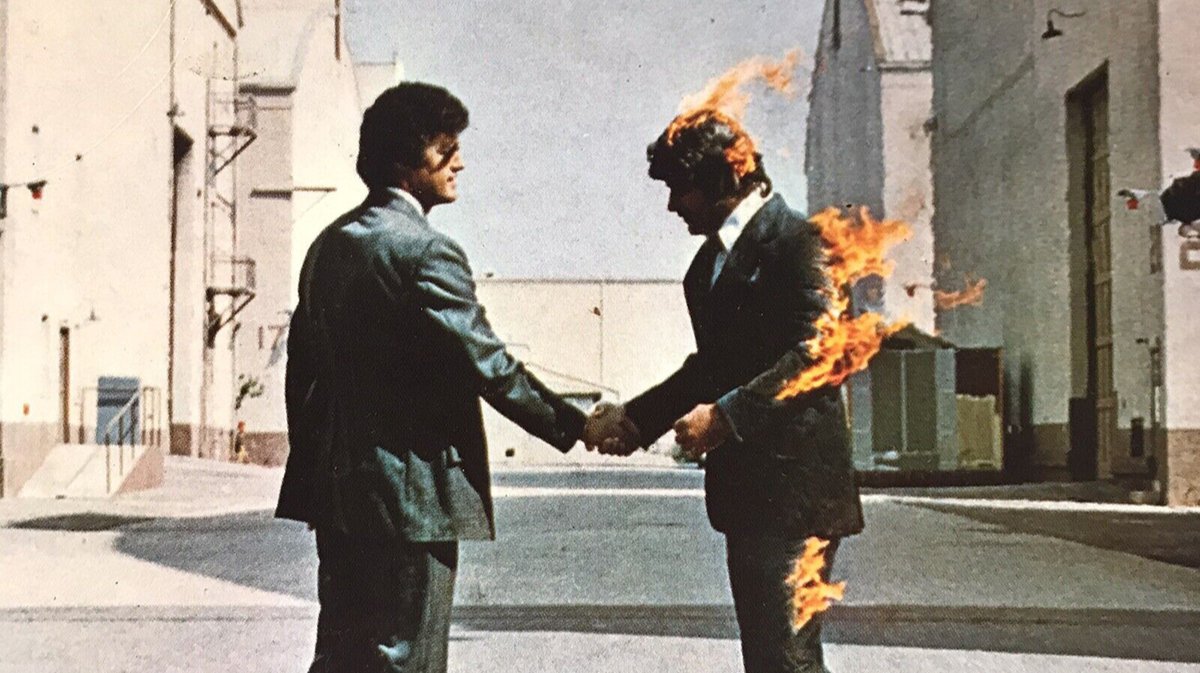Военная победа не всегда гарантия дипломатического триумфа, а поражение на поле боя не означает неизбежной капитуляции за столом переговоров. История знает немало примеров, когда страны, добившиеся успехов в войне, теряли всё под давлением союзников или противников, и наоборот — побежденные сумели выторговать для себя достойные условия. Об исторических примерах, подтверждающих важность переговорного процесса для результата войны, — в материале историка Алексея Уварова.
Талейран и Венский конгресс: военное поражение, но дипломатическая победа Франции
После окончательного разгрома Наполеона в 1815 году Франция оказалась в сложном положении. Каждая из стран-победительниц — Австрия, Пруссия, Великобритания и Россия — понесли за годы войн существенные экономические и военные потери. Возмещать эти потери они собирались за счет Франции, через контрибуции и территориальные уступки. Однако благодаря политике главы французской делегации, Шарля Мориса де Талейрана, Франции удалось сохранить статус великой державы и избежать серьезных территориальных и финансовых потерь.
Когда Талейран прибыл на Венский конгресс, он столкнулся с тем, что основные решения принимались четырьмя державами-победительницами: Великобританией, Россией, Австрией и Пруссией. Они собирались рисовать новую карту Европы вчетвером, без участия Франции, ссылаясь на «право победителей». К решению отдельных вопросов они планировали привлекать Испанию и Швецию, а Франции — лишь сообщить принятые решения. Однако Талейран, встретившись с представителем каждой из держав-победительниц по отдельности, смог навязать своим противникам иную схему принятия решений.

Шарль Морис де Талейран-Перигор. Иллюстрация: François Gérard / Wikimedia
Глава французской делегации представил на переговорах династию Бурбонов как жертву революции, утверждая, что они, как и другие свергнутые династии, должны быть восстановлены в своих правах. Этот аргумент позволил ему требовать возвращения Франции границ 1792 года и предотвратить ее разделение на сферы влияния, чего изначально добивались союзники. В результате его действий Францию пригласили к столу переговоров как равноправную участницу.
Понимая, что между недавними союзниками существуют серьезные противоречия, Талейран начал их использовать. Так, Россия и Пруссия стремились расширить свое влияние: Россия претендовала на Польшу, а Пруссия хотела получить Саксонию. Однако Великобритания и Австрия опасались чрезмерного усиления этих держав. Талейран воспользовался этим конфликтом и предложил себя в качестве союзника Австрии и Великобритании, помогая сдержать амбиции России и Пруссии.
Талейран умело использовал идеи территориального и политического равновесия, доказывая, что только через компромисс и баланс интересов возможно создать прочный мир в Европе.
Вместо того чтобы вступать в прямую борьбу за границы, он сосредоточился на том, чтобы разделить интересы победителей и помешать формированию новых гегемоний.
В этом смысле он поддержал малые германские государства, опасавшиеся господства Пруссии, а также способствовал сохранению независимости ряда итальянских княжеств и Швейцарии. Вся эта система буферных зон работала как противовес амбициям крупных держав, а также формировала линию контроля вокруг Франции, обеспечивая ей стратегическую стабильность.
В результате дипломатии Талейрана Франции удалось избежать жестокого наказания и изоляции. Несмотря на военное поражение, она сохранила большую часть своих территорий и не понесла значительных финансовых потерь. Проиграв на поле боя, Франция осталась в числе ведущих держав Европы.
Берлинский конгресс: военная победа, но дипломатическое поражение России
В 1877–1878 годах Россия вела с Османской империей войну за освобождение балканских христианских народов, в частности болгар. Война шла для России непросто, но к концу февраля 1878 года основные военные силы Турции были разгромлены, а русские войска стояли около Константинополя. Потеряв возможность продолжать войну, Османская империя запросила мира, и в марте 1878 года в Сан-Стефано был подписан договор, закреплявший военные успехи России.
Россия рассчитывала, что эта победа изменит баланс сил на Балканах в ее пользу и обеспечит прочные позиции в регионе. Однако дипломатическая реальность оказалась иной. Вскоре после заключения Сан-Стефанского мира стало очевидно, что Великобритания и Австро-Венгрия не примут его условий. Лондон видел в усилении России угрозу своим стратегическим интересам в Средиземноморье и доступу к Индии, а Вена опасалась, что доминирование России на Балканах приведет к росту панславистских настроений, что угрожало распадом самой Австро-Венгрии.

Сан-Стефано. Соединения русских войск при подписании мирного договора 19 февраля 1878 год. Фото: А. Насветович / Wikimedia / Общественное достояние
Австро-Венгерская империя с начала войны занимала двусмысленную позицию. Еще в 1877 году между Россией и Австрией был заключен секретный договор, согласно которому Вена обещала сохранять нейтралитет в обмен на право занять Боснию и Герцеговину. После окончания боевых действий глава австрийского внешнеполитического ведомства Дьюла Андраши выступил с требованием пересмотреть российско-турецкий договор, заняв весьма жесткую позицию. Аналогичного подхода придерживалась и Британия: премьер-министр Бенджамин Дизраэли усматривал в успехе России угрозу для контроля над путями в Индию. Британский флот был направлен в Средиземное море для противодействия России — англичане были готовы начать войну в случае неуступчивости российской стороны. Наряду с военными приготовлениями британские дипломаты активизировали работу над созданием коалиции европейских держав, направленной против Петербурга.
Ключевую роль в решении конфликта сыграл канцлер Германии Отто фон Бисмарк, который позиционировал себя как «честного маклера» и посредника между великими державами. Несмотря на официальную нейтральность, он фактически поддерживал Австро-Венгрию, стремясь сохранить баланс сил в Европе и не допустить чрезмерного усиления России.
В июне — июле 1878 года в Берлине собрался международный конгресс, на котором ведущие европейские державы фактически выступили против позиции Петербурга, отказываясь признать Сан-Стефанский мир.
Оказавшись в дипломатической изоляции и столкнувшись с реальной угрозой войны против ведущих европейских держав, Россия была вынуждена уступить.
В результате пересмотра условий Сан-Стефанского мира на Берлинском конгрессе Турция смогла сохранить значительную часть своих владений на Балканах, избежав полного вытеснения из региона, как того добивалась Россия. Болгария не стала крупным и независимым государством, а оказалась разделена: одна ее часть получила ограниченную автономию под номинальным османским контролем, а другая осталась под прямым управлением Османской империи. Австро-Венгрия добилась права оккупации Боснии и Герцеговины, а Великобритания — оккупации Кипра. Единственное, что Россия смогла сохранить, — территориальные приобретения в Закавказье, однако на фоне потерь в других регионах это выглядело слабым утешением.
Военная победа России, достигнутая ценой огромных усилий, не была конвертирована в политическое преимущество. Сан-Стефанский мир, который мог сделать Россию доминирующей силой на Балканах, был пересмотрен в пользу ее соперников. Такой поворот событий был возможен как в силу экономической и военной ослабленности России, так и в силу единой позиции европейских держав.
Поддержать независимую журналистику
Китай в 1895 году: вмешательство соседей позволяет избежать полного поражения
Японо-китайская война 1894–1895 годов разгорелась из-за борьбы за влияние на Корейском полуострове и стремления Японии утвердиться в качестве новой региональной силы. Благодаря более современной армии и флоту японцы быстро одержали победу, разгромив сухопутные и морские силы китайской империи Цин.
Итогом войны стал Симоносекский мирный договор, подписанный 17 апреля 1895 года. По его условиям Китай признавал независимость Кореи, которая была вассалом Китая более шести веков. Кроме того, Япония получала в свое распоряжение значительные территории, включая остров Тайвань и Ляодунский полуостров на севере Китая. Наконец, Китай обязывался выплатить внушительную контрибуцию (примерно в 140 млн российских рублей, или около 72 млн долларов США, по курсу 1895 года) и открыть ряд внутренних портов для японской торговли.

Подписание Симоносекского договора. Иллюстрация: Бэисэн Кубота / Wikimedia / Общественное достояние
Однако захват Ляодунского полуострова вызвал серьезное беспокойство у европейских держав, в первую очередь России, стремившейся к расширению своего присутствия в регионе. При поддержке Германии и Франции Россия потребовала от Японии отказаться от контроля над полуостровом, ссылаясь на угрозу «потери стабильности в Азии». Япония была вынуждена подчиниться требованию так называемой «Тройственной интервенции», поскольку не имела реальных шансов противостоять трем европейским державам. Взамен ей удалось добиться увеличения контрибуции со стороны Китая, однако для японского общества это решение стало серьезным ударом по национальному самолюбию. Играя дальше на конфликтах держав в регионе, Китай смог заручиться финансовой поддержкой России и Франции для выплаты контрибуций Японии.
Для самого Китая итоги войны обернулись серьезным снижением международного престижа. Недовольство сыграло свою роль в радикализации настроений внутри Китая и ослаблении правительства, что отразилось в свержении монархии в 1912 году. В то же время возможности Японии по продвижению своего влияния в регионе и давлению на Китай были ограничены другими великими державами.
Портсмут 1905 года: война проиграна, лицо сохранено
В 1904–1905 годах Россия вела тяжелую и неудачную войну с Японией, которая закончилась ее военным поражением. Сдача крепости Порт-Артур, разгром русской армии под Мукденом и катастрофа русской эскадры в Цусимском проливе в мае 1905 года сделали продолжение войны практически невозможным. Внутреннее положение России также ухудшалось: поражения на фронте вызвали всплеск революционных настроений, экономический кризис, забастовки и массовое недовольство.
На фоне серии военных поражений и угрозы революции император Николай II был вынужден согласиться на мирные переговоры. Американский президент Теодор Рузвельт предложил организовать их на территории США, надеясь укрепить международный престиж Америки. Россия дала согласие, но на переговоры отправился не министр иностранных дел, а председатель Комитета министров Сергей Юльевич Витте. Не военный человек и не дипломат, он сумел провести переговоры для России куда лучше, чем могли предположить сами русские дипломаты и их японские коллеги.

Переговоры в Портсмуте, 1905 год. Фото: Wikipedia / Общественное достояние
К моменту начала переговоров в августе 1905 года позиция России выглядела крайне слабой. Она проиграла войну, ее армия была деморализована, а флот практически уничтожен. Япония, несмотря на военные успехи, также находилась в непростом положении: ее ресурсы были на исходе, экономика была истощена, а армия понесла тяжелые потери. В японском обществе росли опасения, что если Россия продолжит войну, то она сможет перегруппировать силы и нанести новый удар. Однако японская сторона прибыла в Портсмут с крайне жесткими условиями: они требовали от России признания Кореи зоной японского влияния, уступки Сахалина и ограничения военно-морских сил в регионе.
Витте сумел расположить к себе американское общественное мнение, подчеркивая, что Россия не считает себя безоговорочно побежденной и готова продолжать боевые действия, если условия мира окажутся неприемлемыми. Его открытый стиль общения с прессой и влиятельными лицами в США, а также демонстративная уверенность в своих силах помогли вызвать симпатии американского общества, которое до того было настроено по отношению к России скорее негативно.
Ни Европу, ни Америку не устраивало чрезмерное усиление Японии. На первом же заседании мирной конференции Витте заявил, что в войне нет ни победителей, ни побежденных, чем задал тон для дальнейших переговоров.
Япония стремилась добиться максимально выгодных условий, однако обнаружила, что у нее нет гарантированной поддержки ни со стороны США, ни со стороны Великобритании и других европейских стран.
Эти противоречия, твердая позиция и умелая медийная кампания сделали свое дело: японцы заколебались. Президент США Теодор Рузвельт и сам, не желая провала переговоров, рекомендовал Токио отказаться от притязаний на контрибуцию. Портсмутский мир, подписанный в августе 1905 года, оказался куда мягче, чем ожидалось. Для США это тоже стало успехом: с одной стороны, они остановили расширение влияния России, с другой — не дали Японии стать доминирующей силой. В Японии же итоги войны вызвали волну возмущения и массовые беспорядки в Токио.
Витте сумел максимально смягчить последствия поражения: свел территориальные потери к минимуму, избежал уплаты контрибуций и сохранил за Россией стратегические позиции. Ключевым фактором успеха стала поддержка американского общественного мнения и грамотное использование противоречий между мировыми державами.
Япония: от атомных бомбардировок к экономическому чуду
Потерпев сокрушительное поражение во Второй мировой войне, Япония капитулировала 2 сентября 1945 года. Военный разгром и последующая оккупация поставили перед японским обществом вопрос о будущем страны: о ее политическом устройстве, экономическом восстановлении и возвращении в международное сообщество. Одним из ключевых событий первых послевоенных лет стал Токийский процесс (1946–1948), во время которого судили японских военных преступников, несколько руководителей прежнего режима были приговорены к смертной казни. Однако демилитаризация Японии не ограничивалась лишь этим процессом. США предприняли комплексные меры, чтобы исключить возможность возрождения ее военной мощи. В 1947 году была принята новая конституция Японии, статья 9 которой закрепила отказ страны от ведения войны как средства решения международных конфликтов и запрет на содержание армии. Американская оккупационная администрация провела реформы, направленные на децентрализацию власти и ослабление элит, включая роспуск крупных промышленных конгломератов (дзайбацу), которые поддерживали японскую экспансию. Однако Япония не оставалась в статусе проигравшей надолго: ее позиции стремительно менялись на фоне противостояния СССР и США.

Хидеки Тодзе, бывший премьер-министр Японии и военный лидер, предстает перед Международным военным трибуналом и выслушивает приговор к смертной казни, Токио, 12 ноября 1948 года. Фото: Charles Gorry / AP Photo / Scanpix / LETA
В геополитическом контексте холодной войны США видели в Японии потенциального союзника против коммунистического влияния в Азии и стремились ускорить процесс восстановления ее суверенитета. Это создало благоприятные условия для японской дипломатии, которая последовательно формировала образ Японии как ответственного партнера на международной арене. Ключевым элементом этой дипломатической стратегии стала «Доктрина Ёсиды» — курс премьер-министра Японии Сигэру Ёсиды, предполагавший тесное сотрудничество с Соединенными Штатами, фокус на экономическом росте и минимизацию военных расходов.
Окончательное урегулирование статуса Японии наступило при подписании Сан-Францисского мирного договора в 1951 году. Этот договор формально завершил состояние войны между Японией и союзными державами, восстановил японский суверенитет и ознаменовал конец периода оккупации. Япония отказалась от претензий на территории, завоеванные в период имперской экспансии, в том числе на Корею и Тайвань, и обязалась соблюдать принципы Устава ООН и Всеобщей декларации прав человека. Вопрос репараций и компенсаций был решен в форме, которая не подорвала экономическое возрождение страны. Благодаря подписанию договора Япония смогла вернуть себе статус независимого государства и заложить основу для стремительного экономического роста во второй половине XX века.
В период с 1945 по 1951 годы Япония прошла путь от побежденной и оккупированной державы до стратегического союзника США. В пользу такого быстрого изменения статуса сыграл как новый геополитический контекст, так и дипломатические усилия Токио. Последнее особо примечательно, учитывая ожесточенность войны на Тихом океане, от боев за каждый остров до атомных бомбардировок. Наблюдатель из 1945 года легко мог предсказывать как минимум десятилетия взаимной ненависти японцев к американцам (и наоборот). Но взамен этого Япония выбрала стратегический союз с победителем и переиграла послевоенную ситуацию в свою пользу.
Реальные переговоры
Приведенные выше примеры не могут служить в полной мере руководством к действию для современных политических элит России и Украины. Реалии XVIII, XIX и XX веков существенно отличаются от текущей международной политики. В то же время основы и методы дипломатической практики, используемой и сегодня, были заложены именно тогда. Одним из ключевых уроков истории является понимание, что военная победа не гарантирует стратегического преимущества в долгосрочной перспективе, и именно переговорная дипломатия остается важнейшим инструментом формирования нового политического порядка.
Умение проигравшей стороны встроить себя в большой международный контекст позволяет снизить давление со стороны державы-победителя, используя влияние других мировых игроков. Подход, который в теории международных отношений ассоциируется с Realpolitik, акцентирует использование конфигурации сил для достижения наилучших условий, даже в неблагоприятных обстоятельствах.

Встреча делегации из России с государственным секретарем США Марко Рубио и другими во дворце Дирия в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 18 февраля 2025 года. Фото: EPA-EFE
Такой подход был ключевым в действиях Талейрана, который на Венском конгрессе использовал внутренние противоречия между державами-победителями. Аналогично Берлинский конгресс 1878 года показал, что даже после военного триумфа Россия оказалась в изоляции, так как ее соперники смогли мобилизовать дипломатические ресурсы эффективнее. В XX веке балансирование между державами также было непростой задачей: Япония в 1945 году была полностью разгромлена, но смогла быстро встроиться в западный мир за счет использования новых противоречий холодной войны.
Современные школы международных отношений предлагают разные интерпретации дипломатии как инструмента. Если Realpolitik (ее апологетом являлся Генри Киссинджер, чья научная работа, к слову, была посвящена именно Венскому конгрессу) рассматривает дипломатию как балансирование между интересами держав, то неолибералы делают акцент на институтах и механизмах сотрудничества, а конструктивисты обращают внимание на влияние социальных норм, идентичностей и идей.
С точки зрения конструктивизма успех Талейрана можно объяснить не только его маневрами, но и тем, что переговоры велись в рамках общей системы ценностей и норм, характерных для европейской аристократии. Разделяемые культурные коды и понимание дипломатического этикета облегчали достижение компромиссов и снижали уровень недоверия.
В более позднее время США и СССР, несмотря на жесткое противостояние в холодной войне, также обладали определенными точками соприкосновения — прежде всего, признание принципов мировой политики, основанной на государственном суверенитете и ядерном сдерживании,
что позволяло выстраивать ограниченное, но всё же стабильное сотрудничество.
Повторю еще раз, что искать в событиях далекого и недавнего прошлого прямые аналогии с современной ситуацией было бы некорректно. Дипломатические возможности формируются не только исходя из действий отдельных политиков, но и в результате широкой конфигурации международных сил. Однако история учит тому, что переговоры — это продолжение борьбы другими средствами и грамотное использование дипломатических механизмов может как усилить позиции проигравшего, так и подорвать успех победителя.
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.
Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]
Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».