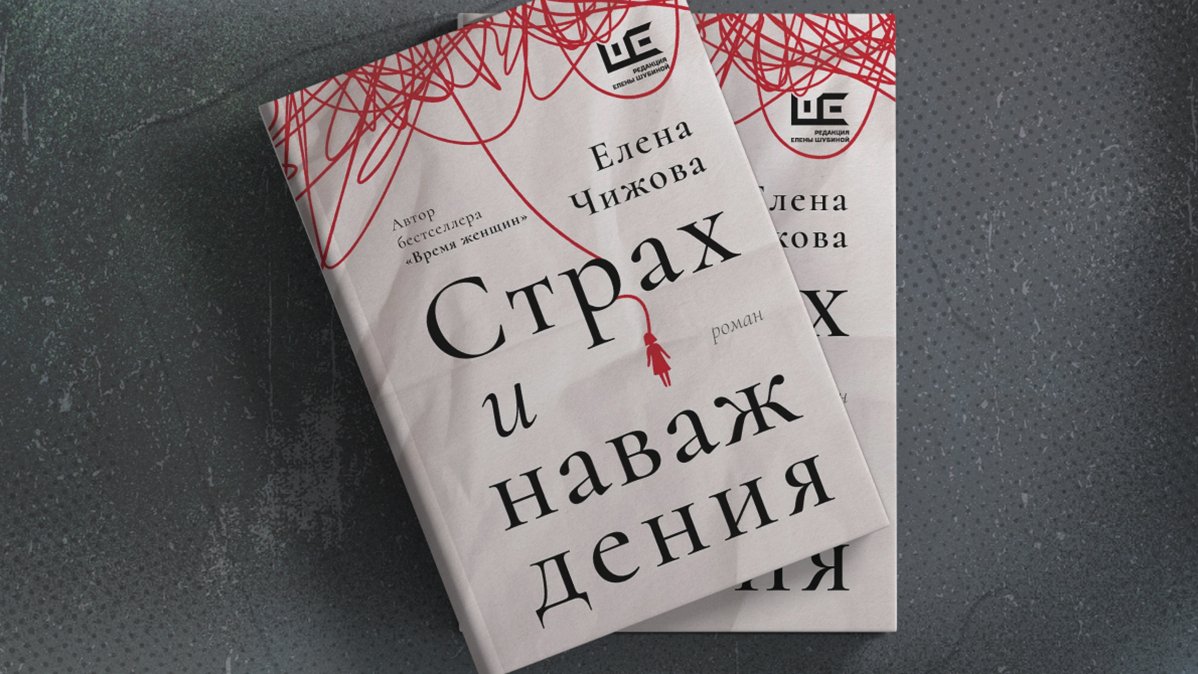Известная петербургская писательница Елена Чижова, в 2009-м получившая «Русский букер» за бестселлер «Время женщин», часто поднимает серьезные социально-исторические вопросы: проблемы памяти, антисемитизма, человека в тоталитарном контексте и так далее. Название нового романа «Страх и наваждения» подсказывает, что речь пойдет о настоящем. Чижова сплетает постфевральскую действительность с подзабытой пандемией, находя связь между двумя главными потрясениями начала 2020-х. В результате получается очень странный текст, центральным образом которого становится пространство — «искаженная реальность». Сорин Брут прочитал «Страх и наваждения» и рассказывает о находках романа.
Главная героиня книги писательница Ирина болезненно перенесла два ковидных года. Тревога мешает ей сосредоточиться на книге и оборачивается затяжным творческим кризисом. Трамплином для возвращения к жизни она видит швейцарскую конференцию, где должна выступить с докладом о русской культуре в 1990-е. Мероприятие запланировано на 26 февраля 2022-го. Случайных встречных писательница рассматривает как возможных героев будущего романа и додумывает им биографии.
Ирина потрясена 24-м февраля, но всё же отправляется в аэропорт. А дальше погружается в фантасмагорический мир. Всамделишные события перемешаны с наваждениями, которые постепенно становятся реальнее реальности. Потенциальные персонажи захватывают людей. Среди героев есть вымышленный историк, исследователь Украины и национального самосознания в позднем СССР, — ставший мелким, но уверенно стоящим на ногах чиновником. Когда политическая обстановка накаляется, на пороге его квартиры всё чаще появляются полицейские. Есть выдуманная незадачливая актриса, на фоне эмиграции коллег получившая долгожданную главную роль. Ее сын тем временем завалил вступительные, и ему грозит армия.

Елена Чижова на книжном фестивале «Красная площадь», 2017. Фото: Svklimkin / Wikimedia
Фигурируют даже шахматные фигуры: рыцарь (конь) и епископ (слон). Похожие на них люди впервые появляются во сне героини, но затем оборачиваются ее попутчиками, а ближе к финалу и вовсе оказываются в центре внимания. Большую часть книги Ирина пребывает в полете. Самолет вынужденно садится в неизвестном аэропорту, дальше — ночь в отеле и новый рейс, но уже будто без конечной точки маршрута. «Транзитная зона» в широком смысле, между-место — метафора турбулентного не-времени бесконечного февраля. Герои не летят, но вращаются в воронке, где вместе с ними мельтешат изломанные катастрофой обрывки привычного мира.
«Страх и наваждения» — психологический роман, написанный изнутри потрясения. События словно бы переработаны сознанием героини со всей сбивчивостью и перескоками ассоциаций, тревожной дробностью и одновременно депрессивной вязкостью.
Состояние тех, кто воспринял 24 февраля как трагедию, передано крайне правдоподобно. И именно это делает книгу трудной для восприятия.
В более спокойном контексте читать ее будет проще. Сюжет в романе вполне условен. Линейная динамика почти отсутствует. Откуда ей взяться внутри воронки? А значит, обсуждать можно или картину в целом, или отдельные мысли, образы, — не пытаясь охватить всё смысловое поле текста.
В общественном сознании война перечеркнула пандемию, затолкав ее на антресоли памяти. Чижова же возвращает ковид на место:
«Будто нас… поразило редкое психическое расстройство — навязчивый страх прикосновений, побуждающий шарахаться друг от друга; и по возвращении тщательно дезинфицировать руки. Бог мой, с какой поспешной готовностью мы прятались в скорлупу своих жилищ, пресекая все прежние, привычные, десятилетиями длившиеся связи, — словно уже догадываясь, что пандемия создаст для нас новые, куда более прочные, неразрывные, когда каждый для каждого может стать основной причиной смерти».
Каждый оказался угрозой для каждого — в этом смысле военное время стало наследником пандемийного, а недоверие и подозрительность — своего рода искусственным вирусом, ударившим по ослабевшим организмам. Возможность доноса (не обязательно из политических соображений) создала новую «социальную дистанцию».
Бросается в глаза, что и историк, и актриса, и сама писательница остаются с коллективной катастрофой один на один: переживают ее в герметичном персональном аду. Сама реальность становится пространством постоянной угрозы. Сцена на почте, где все присутствующие видятся героине потенциальными доносчиками, вынюхивающими инакомыслящих, рифмуется с неожиданными визитами полицейских к историку (они — по другому поводу, но он-то знает, что на самом деле у них есть более веский резон — политический). К роману Чижовой хочется подбирать ассоциации из живописи. Например, вот картина «Не прислоняться» Эрика Булатова — заградительное стекло, отделяющее героев от мира. Но стекло не прозрачное. Страх искажает зрение, создавая для наваждений тепличные условия.
Чижова неоднократно прибегает к оптическим метафорам. Упоминается Государственный оптико-механический завод им. ОГПУ в Ленинграде (там работали родители героини). Название историческое, но задает смысловой уровень — спецслужбы имеют дело с оптикой граждан, «творчески» ее корректируют. Один из героев долго рассуждает о строении глаза — палочках и колбочках, черно-белом (более архаичном, но более устойчивом) и цветном зрении. И спрашивают про «реальное изображение»: «Ты уверена, что оно реальное?»
В романе постоянно подчеркиваются выпуклые «полупрозрачные глаза» (иногда — «линзы») Полупрозрачного Господина. Речь идет о вожде тараканов, который уцелел после дезинсекции в квартире актрисы и наблюдает за героиней, постепенно укрепляя свою власть над ней.
Декорации спектакля актрисы тоже «обманывают» зрителя: «Искусно прорисованный задник, призванный обозначить место событий, целенаправленно (такова задумка оформителя) искажает действительность: предметы, изображенные на холсте, вытянуты, их реальные пропорции не соблюдены; обвисающий под собственной непомерной тяжестью холст (из зрительного зала он видится сплошным и плотным) зияет многочисленными прорехами, будто его погрызли мыши… Мария в страхе оборачивается и видит: предметы, изображенные на холсте, накрывает густая серая тень. Не надо особенно вглядываться, чтобы опознать Полупрозрачного Господина».
В логике романа именно так действует тоталитарная власть. Ее оружие — прежде всего психология, перекодировка мира. Режим устойчив в искаженном пространстве, поэтому постоянно стремится создать его и не выпустить сограждан из авторского сочинения.
«Внуки вырастут, а телевизор останется. Со временем те, кто там мелькают, станут роднее внуков». Оптическая иллюзия: близкое оказывается дальним, дальнее — близким. Заоконный природный мир теряет смысл, тогда как «искаженная декорация» наливается соком.
«Собирая обильный урожай, она [пандемия] прячется за столбцами цифр… Смерть и статистика — та еще шайка-лейка. Пока первая, игриво подмигивая жертве, манипулирует цинковыми наперстками, ее подельница отвлекает внимание на себя: сыплет соблазнительными цифрами, ловко заметая следы», — размышления о пандемии оказываются актуальны для пост-февраля. Война, для большей части россиян существующая в медиа, искажается. Сама ее суть — сломанные и уничтоженные жизни множества конкретных людей — прячется за статистическими выкладками, празднованием локальных побед и восхвалением героизма.
«Рыцарь» и «епископ» из шахматных фигур постепенно превращаются в карнавальных героев. Спектакль делается цирковым представлением. «Рыцарь» (силовик) должен олицетворять честь, принципы и защиту. «Епископ» (религиозная власть) — дух, мораль, а быть может, и христианское сострадание. Однако внутри ими же выстроенной ирреальности они оказываются властвующими циркачами, жонглирующими пустыми шариками вроде «целей спецоперации» или «традиционных ценностей». Образ самолета, захваченного ментально поплывшими циркачами, перекликается с тезисом из романа Акунина «Москва–Синцзинь» (2024): «Мир похож на самолет, которым управляют психи». Но безумие видно только снаружи. Из ирреальности его не разглядеть.
Героиня Чижовой размышляет: «Персонаж ненаписанного романа провожает меня глазами... Кто объяснит ему, что я не автор; я — такой же персонаж. Мы все в руках графомана, ломающего чужие жизни». В последние годы приходится задумываться об авторстве: власть создала такие условия, что писателю как будто не остается ничего другого, кроме как их осмыслять. Результаты получаются концептуально похожими — читателю всё труднее обнаружить оригинальную мысль.
Но Чижова говорит именно о «графомане». Ее собственный метод противоположен властному. Фантазируя о случайных людях вокруг, она оживляет их: делает близкими, наполняет судьбой и волей. А государство-графоман создает мертворожденную реальность, которую населяет героями-функциями, обнуляет персональные истории. В тексте сквозит тотальное разочарование Ирины. Оно — следствие того, что власть-графоман считает себя вправе придумать смысл жизни для всех своих «картонных персонажей» разом. 24.02 она осуществила «зачистку»: разрушила сотни тысяч, если не миллионы личных смыслов тех людей, которые связывали свою судьбу с Россией в глобальном мире. В конце малосодержательной «рукописи» путинизма должен остаться только безголосый хор, которому ничто не помешает погибнуть.
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.
Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]
Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».