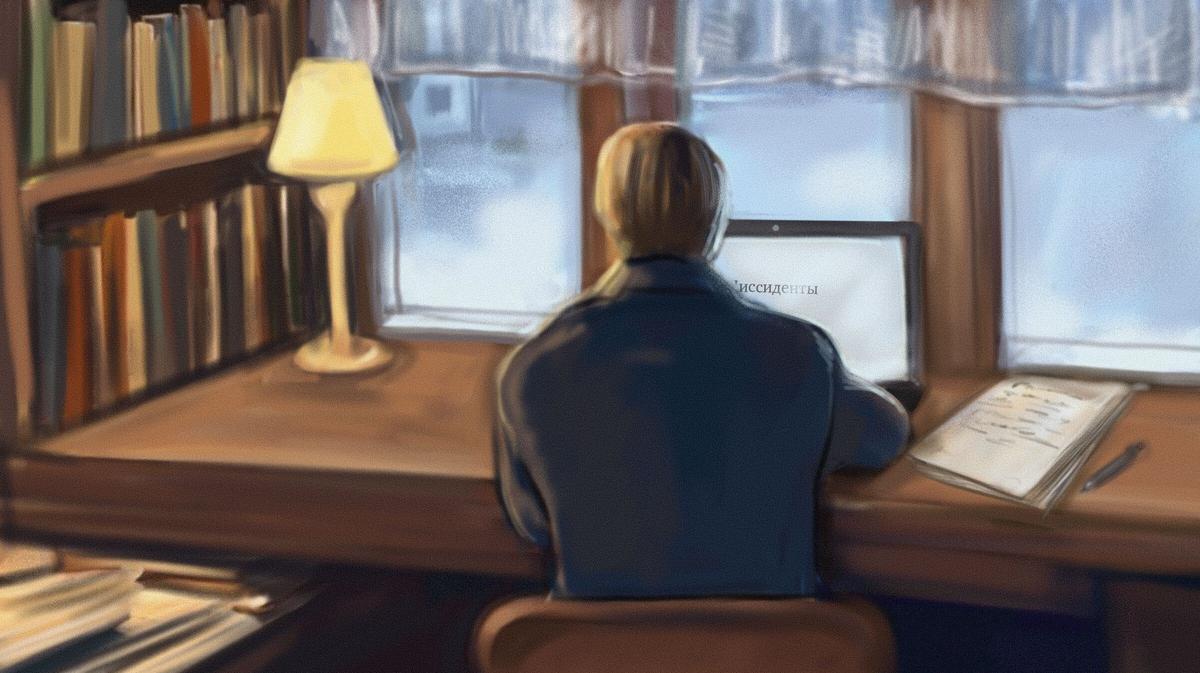Что я делал в последнюю неделю? Как раз помню очень хорошо, потому что это было достаточно абсурдно, чтобы запомнить. Нечто из серии «продолжал бы играть в мяч», потому что — а какие варианты? И я писал заявку на сценарий сериала «Диссиденты», на который меня пригласил хороший молодой режиссёр. У него уже вышел талантливый полнометражный дебют про женщину-врача, правозащитницу, которая занималась благотворительностью и помогала инвалиду из неблагополучной семьи, но тут этому пятнадцатилетнему инвалиду стали помогать единороссы, они ему пообещали содействие при поступлении в институт, и тогда он написал заявление, что благотворительница говорила ему гадости про Родину, а он настоящий патриот и в её услугах не нуждается. Его тоже можно понять, у него появился шанс. Она-то была из семьи благополучной и в прошлом даже аристократической. Она его не осуждала, в общем. Фильм мне понравился, и я согласился, хотя про диссидентов этот режиссёр просто в силу возраста ничего не мог знать.
А я знал, я сам вырос на классической московской кухне и нигде не видел потом более симпатичных людей, чем завсегдатаи этой кухни. Вспоминать о них среди сгущающейся мерзости было исключительно приятно. Во всяком случае это был лучший способ провести февраль.
Первый вариант заявки я написал сравнительно легко.
Мы начинаем рассказывать эту историю в серый январский день 1988 года, когда в Шереметьево-2 — единственный тогда международный аэропорт Москвы — прибывает несколько рейсов: один из Франции, другой из Израиля, третий из Штатов.
Из Парижа прилетает знаменитая диссидентка Алёна Грановская, пятидесятилетняя когда-то-красавица, ныне её несколько портят преждевременные морщины. Это её первый визит в освобождающуюся Россию по личному приглашению и под личные гарантии самого Александра Яковлева, члена Политбюро и «духовного отца перестройки».
Встречает её высокий костистый мужчина с ещё не отросшими после зоны волосами — он только что вышел по амнистии после месячной голодовки. Это диссидент Евгений Старостин, которому только ещё предстоит год спустя возглавить группу независимых народных депутатов, требовать запрета КПСС и умереть от сердечного приступа после заседания, на котором его освищут депутаты. Не все, а именно те самые «простые люди», из которых он происходил сам и ради которых жил, рисковал, сидел, держал голодовки.
Между Грановской и Старостиным не просто отчуждение, но сильнейшее взаимное недоверие — это заметно по первым их осторожным взглядам друг на друга.
Видно, однако, что она испытывает перед ним вполне объяснимый комплекс вины: она когда-то уехала, а он не захотел эмигрировать, хотя его вызывали в КГБ и давали готовое приглашение и оформленный загранпаспорт. Отказался и сел надолго. Вечная эта пролетарская несгибаемость, которая когда-то её так умиляла. Он, напротив, может себе позволить и великодушие, и заботу, но иногда в его поведении сквозит снисходительность. Всё-таки она уехала, и все они такие. Интеллигенция может просвещать, может шуметь, но настоящими борцами они не были и не будут.
— Ты очень плохо выглядишь, — говорит она с тревогой.
— А ты хорошо.
— Я по голосу не подумала бы, что ты такой… — она не может подобрать точное и необидное слово.
— Голос вообще последнее, что остается.
— Сначала на могилу к Саше, — говорит Алёна.
Саша Грановский — её первый муж, который лежит на Востряковском кладбище. Он не дожил до её первого после эмиграции визита в Россию.
Дело в том, что когда-то, ровно 20 лет назад, он сидел с молодым неопытным ворёнком Женей Старостиным, который взял ларёк и попался, но Саша Грановский многое ему объяснил. Когда Женя выходил на волю, Саша посвятил ему стишок: «А в общем, неплох твой странный удел — ты здесь и оглох, ты здесь и прозрел». Оглох он после особенно сильного удара охранника в ухо, а вот прозрел в результате общения с диссидой, которой в лагере было немало. Саша Грановский направил Женю Старостина к своей жене — просто перекантоваться в Москве и прийти в себя. Но вышло так, что бывший вор — младше Алёны всего на три года — в процессе чтения запрещённых книжек и общения с кухонными друзьями — полюбил Алёну, вот как бывает.
Женя понимал, конечно, что это, прямо скажем, западло — клеить бабу друга, который сейчас топчет зону. Ведь Саша ему настоящий старший друг и благодетель, но ведь Саша сам сколько раз говорил, что Алёна ему в тягость, что он её уже не особо любит, что постоянно от нее погуливает…
Погуливал, конечно. Но представить себе, что Алёна может ему изменить, он не мог и в страшном сне. Когда Саша вернулся домой и увидел, что Алёна с Женей живут вместе и что быт их уже налажен — он чудом удержался от запоя. Да, он никогда не любил Алёну по-настоящему, да, пол-Москвы любовниц, но к её измене он никак не был готов.
Потом, когда его утешила молодая переводчица Инга Львова, он, конечно, пришёл в себя, и они даже дружили домами, к тому же Женю Старостина почти сразу посадили снова — уже за распространение порочащих измышлений, по знаменитой статье сто девяносто прим. Осторожности он так и не научился. И Саша даже шутил: «не дай бог он теперь к Инге приедет, а то мало ли».
Деятельность Старостина будет огромна, упорна и разнообразна. Можно сказать, он будет координировать всю практическую работу московских инакомыслящих — размножать крамольные тексты, выпускать правозащитный бюллетень «Хроника», организовать «грев» семьям, где посадили кормильца. Он будет связующим звеном между разными группами диссидентов — кружком физиков, адвокатами, студентами… Физики ещё ничего, крепкие ребята, умеют организовываться, в отличие от гуманитариев. Маршруты его будут пролегать то в Дубну, то в новосибирский Академгородок, то на Дальний Восток, где появилось несколько интересных ребят с сепаратистскими идеями насчет отделения Сибири от России… Алёна будет не так уж часто его видеть дома. Иногда ей будет казаться, что он в демократическом движении уже значит гораздо больше, чем она и её бывший муж Грановский вместе взятые.
Именно Старостин будет связующим звеном между двумя главными лидерами российской подпольной демократической оппозиции, великими вождями демократического (оно же диссидентское) движения, на которых все будут ссылаться — но в кадре мы мельком увидим только лысину одного, академика Митрича, и бороду другого, писателя Исаича.
Может быть, именно поэтому, из-за постоянно растущего авторитета Жени Старостина, сам Саша Грановский, когда-то претендовавший на некое первенство среди «демократов» — от диссидентского движения отошёл.
Занимался переводами и умер в восемьдесят шестом, когда переменами едва запахло, но запах этот был слаб и нестоек. Вот разве что Гумилёва напечатали, потому что, по слухам, он был любимым поэтом жены генсека.
А Алёна уехала — точнее, была почти официально выслана — из СССР в семьдесят шестом, когда разгромили Хельсинкскую группу и стало понятно, что никакая «разрядка» ничего не изменит. Но обо всём этом мы узнаем позже. Пока они стоят у могилы на Востряковском.
— Я тут всех знаю, — говорит Алёна. — Тут и бабушка моя лежит.
Женя молчит. Он вообще не знает, где лежит его бабушка.
Он хочет приобнять Алёну, но при Саше, который смотрит на него с могильного камня, ему неудобно.
Первый эскиз моему режиссёру понравился, он даже опознал в нём слегка трансформированный треугольник Даниэль—Богораз—Марченко, но попросил более молодёжную любовную историю — «в качестве второй арки», чтобы привлечь студенческую аудиторию. Мы люди негордые, тем более что такая история у меня была, и вписал я её с особенным удовольствием — эти персонажи мне больше нравились.
В тот же самый день почти в то же самое время из Штатов прилетает 39-летняя, всё ещё очень красивая, но не очень знаменитая художница Дина Царенко, ныне Стрейч, которую встречает известный когда-то московский адвокат Глеб Громов.
Громов двадцать лет назад гремел, был богат и знаменит, московские «хозяйственники» высоко его чтили и щедро снабжали. Выигрывал он примерно каждое четвёртое дело о растратах, спекуляциях и подпольных цехах, что при советском обвинительном уклоне было чудом. Тогда Громов был лощёный, полноватый, не по-нашему элегантный. Дорогой коньяк и дефицитный балык в его доме не переводились, техника у него была японская, машина хоть и «Волга», но с двигателем от «Мерседеса», и брался он только за самые дорогостоящие дела, но при этом умудрялся нравиться и начальству, и коллегам.
Но вот поди ж ты, он взялся защищать восемнадцатилетнюю Дину, студентку первого курса, которой вздумалось разбрасывать листовки в Большом театре, из ложи третьего яруса в партер. Прокламации содержали одну фразу на машинке: «Товарищ! Ведь ты всё понимаешь!»
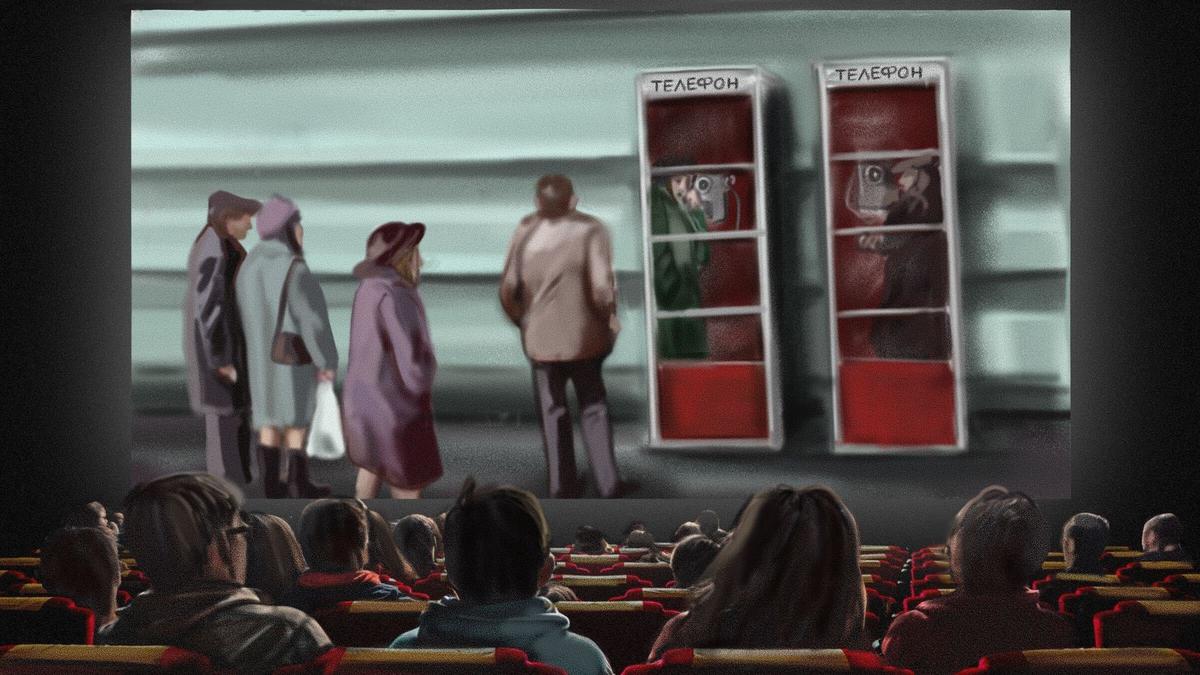
Иллюстрация: Анастасия Кшиштоф / «Новая газета Европа»
Защищать её Громов взялся по просьбе отчаявшихся родителей, которые обожали дочь, исполняли все её капризы и желания (в том числе снабжая книгами не издаваемых в СССР авторов) — и поэтому не смогли научить её приспосабливаться и маскироваться. Её отец, Андрей Иванович Царенко, замдиректора крупного московского стройтреста, был знаком с адвокатом Громовым по знаменитому «Процессу о пропавшем железобетоне». Но не только в отцовской просьбе, подкреплённой увесистым гонораром, было дело, а в том, что лицо Дины на фотографии его сразило. А в жизни она оказалась ещё лучше.
Так что отмазывал её Громов единственно для себя, потому что хоть и был крупнейшим московским ходоком — иногда его сравнивали с самим Грановским, — а такой женщины у него ещё не было, и что-то он в ней увидел такое во время долгих досудебных бесед, что вся его преждевременно постаревшая, циничная душа расправилась и затрепетала. И добился-таки он невозможного — условного срока. Невероятно, но факт: он сумел доказать, что фраза в листовке «Товарищ! Ведь ты всё понимаешь!» касалась старомодного стиля советского классического балета, и не более того, и уговорил Дину, чтоб она наивно, но упрямо настаивала на этом в судебном заседании. Осудили за мелкое хулиганство.
Итак, добился Громов условного срока, и всё у них с Диной «заверте…», но вот беда — переезжать к нему Дина не собирается. Выходить замуж? Тем более. Приезжает к нему, когда хочет. И восстанавливаться в МГУ ей неинтересно.
И вообще, при всей взаимной страсти, в паузах между соитиями она называет Громова конформистом, издевается над его приспособленчеством и всячески клеймит. Даже и рвать с сомнительными друзьями она не желает.
А друзья у неё очень сомнительные, во всех смыслах.
Одна подруга из окна выбросилась — потому что её случайно разоблачили как осведомительницу. Дина и разоблачила. На домашнем философском семинаре приятель рассказывал, как был на даче одного известного физика, где в гостях был сам Митрич, ну вы поняли?.. А эта подруга завозилась у себя в сумочке, вроде носовой платок достает, и говорит: «Ой, повтори, я не расслышала…» Тут Дина её сумочку как схватит, как расстегнёт — а там коробочка такая, как сигаретная, и на ней красная лампочка горит. Все замолчали, а эта самая подруга вдруг как рванёт в другую комнату, и к окну, и всё…
— Ты хоть понимаешь, что ты, если все эти дела за скобки вынести, ты просто-напросто человека убила? — спросит Громов, переведя дух.
— Она сама себя убила. Когда завербовалась, — бестрепетно ответит Дина. — Да, кстати, сделай мне алиби на тот день. Напиши объяснение, что мы с тобой как раз в это время, ну, сам знаешь, ты же у нас адвокат. А то ребята сказали, могут потянуть за доведение до самоубийства. Напишешь?
— Эх вы, — вздохнет Громов, с трудом удерживаясь от желания дать ей по морде. — Эх вы, контра базарная. Так вашего брата на зоне зовут…
И тут же получит от Дины пощечину, тарелку об пол, хлопнутую дверь и три дня никакого разговора.
Потом, конечно, они помирятся. И объяснение он напишет.
Так что приходится Громову, человеку осторожному и на самом-то деле очень советскому по убеждениям, прятать у себя опасную литературу, давать приют грязным и неблагодарным представителям молодёжных движений из Риги и Ленинграда, устраивать шумный «квартирник» знаменитого молодого барда, который получил благословение самого Галича, и вообще вовлекаться в несвойственные ему круги. Главное же — все его аргументы разбиваются о стену её презрения.
— Ты пойми, — говорит он. — Россия никогда не жила так хорошо, как теперь! Чего тебе не хватает? Всё постепенно будет. Вон, Трифонова печатают. Вон, Твардовского терпят. Вон, Аксёнов твой себе позволяет чёрт-те что! — Он швыряет об стену номер «Авроры», где, хоть и с дикими купюрами, напечатано крамольное «Рандеву». — Вон, всё, что тебе надо, можно взять в самиздате, и никого не хватают, если не нарываться… Но тебе же надо именно нарваться! Тебе же иначе неинтересно!
Да, ей иначе неинтересно. Балык-то она с большим аппетитом жрёт и нахваливает, но не хочет, чтобы он попрекал её этим балыком. А когда он везёт её в Крым, она умудряется и там вляпаться в историю с крымскими татарами.
Там, кстати, окажется, что о крымских татарах до сих пор нельзя говорить вслух, потому что высылка наций — табуированная тема. Тридцать тысяч населения полуострова чувствуют себя запрещёнными людьми, им запрещают строиться, да и украинцы рассказывают нашим героям, что про Бабий Яр упоминать ни-ни. А про встречу захватчиков цветами под лозунгами национальной самостийности вообще помнить нельзя, этого как бы не было. Тут выясняется, что прошлое близко и тлеет буквально под тонким слоем почвы, и только чудом Громов ухитряется вывезти Дину из Крыма на машине и тем спасти. Нет, любить-то она его любит. Но себя же за это презирает. И весь их трёхлетний роман состоит из бешеной любви и отчаянных стычек, слёз, примирений и новых споров с драками.
О листовках в Большом театре знаменитый и уже немолодой сценарист Валентин Лесков тогда же написал нашумевшую в столичных кругах пьесу «Защитник» — конечно, её нигде не поставили, несмотря на всю маститость автора, которого, кстати, за это не пустили на кинофестиваль в Италию. Зато её читали по ролям в московских диссидентских квартирах, на писательских дачах и даже в одном самодеятельном студенческом театре. Туда иногда звали Дину, как героиню этой пьесы. Никто, разумеется, и словом не смел обмолвиться о том, что это она. Все только переглядывались и всё понимали.
Вот на одной такой читке Дина влюбилась в молодого и красивого, умного и независимого, настоящего рыцаря без страха и упрёка (который, заметим, во втором сезоне заложит всех, оказавшись то ли трусом, то ли дураком, а может быть, и провокатором). Влюбилась — и ушла от Громова окончательно.
А Громов испортит себе карьеру и из модного адвоката превратится в заурядного, а потом и вовсе уйдет преподавать в заочном юридическом. Это, впрочем, не спасёт его от избиения, которого в 1974 году так и не раскроют, — это ему, вероятно, удружит та самая служба, с которой он против собственной воли вошёл в противостояние. И после этого избиения, конечно, Громов будет уже не тот. Тогда-то Дина будет просиживать сутками возле него в больнице, но после выздоровления он сразу откажет ей от дружбы, как отрежет. Ему благотворительность не нужна. Тем более от невесты молодого красивого рыцаря.
— Ну что? — спросит его Дина в аэропорту. — Как Вера, как сынок?
— Вера давно с другим мужем, и сынок там же.
— Но ты работаешь?
— Я работаю. Преподаю.
— Ты похудел, тебе идёт, — скажет Дина, когда они уже будут в его сильно постаревшей машине пробираться в Москву по Ленинградке.
— Да вообще всё к лучшему, — скажет он. Это у него с юности любимая поговорка: «Всё к лучшему в лучшем из миров».
— Громов, — скажет Дина. — Ты меня куда-то не туда везёшь.
— К тебе домой, — скажет Громов. — Я помню твой адрес.
— Не хочу домой. Папа умер, а мама до сих пор, ты не поверишь, не может мне простить тебя.
— Что? Тебе?! Простить меня?! С этого места подробнее, пожалуйста.
— А то ты не помнишь, как она на тебя вешалась? — усмехнется Дина. — Кстати, у вас всё-таки что-то было? Сейчас-то признайся.
Да, действительно. После удачного процесса родители умоляли адвоката отвадить дочь от «этих людей».
А когда у Дины начался роман с Громовым, то мать стала ревновать. Ей казалось, что знаменитый адвокат мог бы заинтересоваться ею, ведь она гораздо красивее дочери, и ей всего тридцать восемь.
Она звонила ему, просила о юридических советах, однажды даже напросилась домой. Был тяжелый бессмысленный разговор.
— Странно всё это, — вспомнив эту историю, вздохнёт Громов. — Нет. Конечно, не было. Я, разумеется, подлец, но не настолько. Так куда едем?
— К тебе.
— В смысле? — переспросит он иронически.
— В прямом смысле, Громов. Ты что, забыл, как меня к себе возил? Или у тебя есть нечего?
— Ну, в общем, балыка не обещаю…
— Но хоть что-то обещаешь? А, Громов? Или я совсем стала старая?
— Это я совсем старый.
— Ну и хорошо, — решительно говорит Дина. — Хоть поговорим. А то ни одну важную вещь не успевали проговорить как следует.
— Очень интересно, — сказал режиссёр одобрительно. — Но вот знаете… Не только же любовью они все там занимались, правильно? Хорошо бы туда линию со спецслужбами, чтобы придать как бы большую детективность. И чтобы этот спецслужбист был искренний, понимаете? Настоящий. Можно даже верующий.
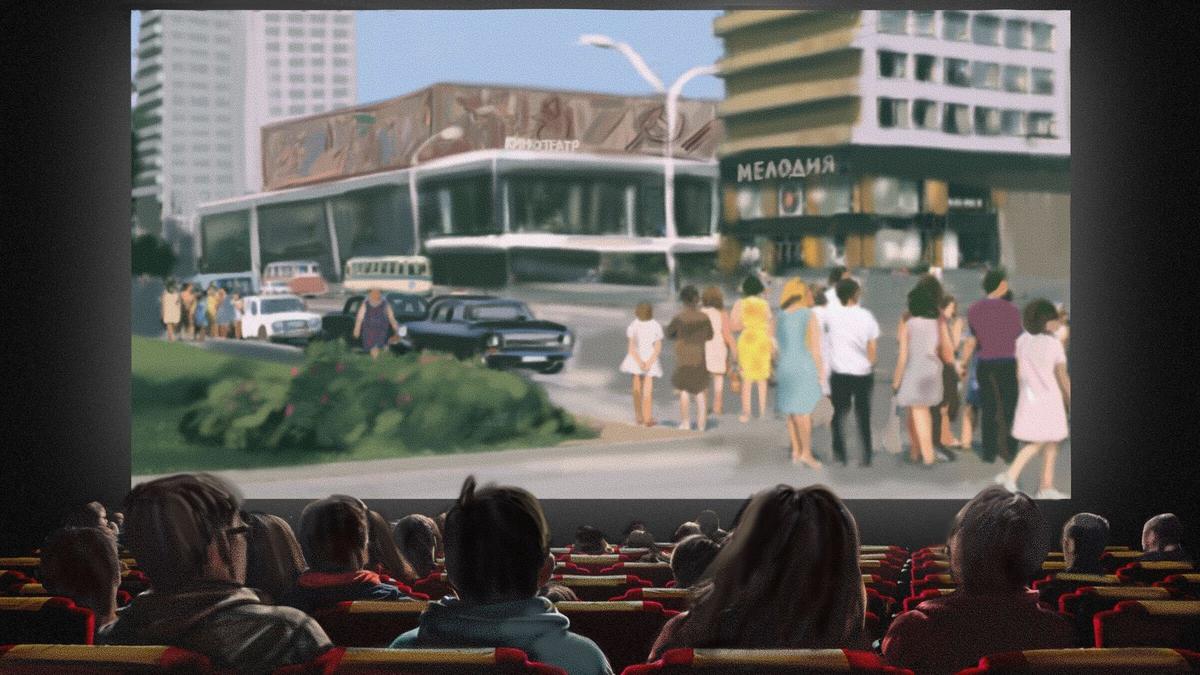
Иллюстрация: Анастасия Кшиштоф / «Новая газета Европа»
Ну, с этим проблем вообще не возникло — одного такого я даже лично знал.
И ещё один человек прилетел, хотя его отговаривали. Это видный «отказник», борец за права евреев — в том числе за право отъезжать на историческую Родину, — Натан Галесник. И встречает его мужчина в штатском, выправка которого, однако, позволяет нам сразу всё понять. И лицо у него такое стёртое, профессионально исчезающее из памяти сразу после разговора. И фамилия у него Петров — под этой фамилией знал его Галесник, когда они разговаривали гораздо чаще, чем Галеснику хотелось.
Петров был человек интересный, кто бы спорил.
Галесник всегда понимал, что дело его мёртвое — оно было мёртвым уже тогда, когда сто прапорщиков, как говорил Грибоедов, мечтали перевернуть государственный строй России. Но удивительное дело, что и Петров отлично понимает — его дело тоже мёртвое, и с такой глупой властью они обречены проиграть. Так что их долгие разговоры отчасти похожи на стокгольмский синдром — отчасти взаимный. Нет, конечно,
Петров всё делает как надо — устраивает Галеснику увольнение из сектора машинного перевода, где он занимался своей кибернетикой. Собирает на него подробное досье, слушает телефонные разговоры. Но потрепаться им интересно, и даже берёт он у Галесника для личных целей почитать Авторханова и Оруэлла.
Интересуется происхождением партократии и вообще историей тоталитаризма. А ещё ему очень интересно пообщаться с православным священником о. Михаилом (Нестеровым), набирающим известность в кругах московской интеллигенции. К нему просвещаться ездят почти все московские диссиденты, интеллигенты и просто искатели ответов на вопросы, на которые ответа и нету: батюшка честно это объясняет, но тем сильнее его любят новокрещенцы.
С Нестеровым, кстати, связана отдельная большая линия. Он ведь окончил знаменитую московскую 135 школу с гуманитарным классом. Мы увидим его впервые на встрече выпускников, спустя 15 лет после выпуска. Один с гордостью расскажет, что работает на телевидении, другой — что в секретном КБ, так называемом «ящике», третий дошёл до степеней известных при Андропове, любившем набирать молодых интеллектуалов в структуры КГБ. А Михаил, подававший самые блестящие надежды во всем классе, признается, что он поп. Правда, явился «в гражданском», чтобы никого не шокировать. Оказывается, попы ещё существуют — после всей хрущевской борьбы с ними и всей советской атеистической пропаганды. Сначала ему не верят, потом постепенно проникаются. «Один из вас сдаст меня», — говорит он, шутя, но никто не опознаёт источник цитаты. (А шутка-то оказалась пророческой, но это уже история из последних серий).
И в один из вечеров в его сельском доме на станции Снегири (там у него небольшой деревенский приход) появится Петров. Батюшка всё поймет, тем более что Петров представится по всей форме — майор такой-то.
— Мне проехать с вами? — спросит он почти равнодушно.
— Да нет, это я к вам, — скажет Петров застенчиво. — Я на исповедь.
Во время исповеди, правда, он не удержится и начнёт расспрашивать о некоторых общих знакомых, но о. Михаил скажет строго: «Простите, но здесь вопросы задаю я».
Мы увидим довольно широкую панораму жизни религиозной России. Убедимся, что существует разветвлённая сеть старообрядцев, что у сектантов-баптистов прекрасно работают взаимосвязи, и когда известному московскому физику понадобится редкое лекарство после автокатастрофы, вовремя доставить его в больницу смогут не другие академики, а именно верующие, религиозные диссиденты. Их возможности, а главное — готовность действовать куда значительней, чем у советской номенклатуры. С сыном-старшеклассником одной из героинь мы пропутешествуем на Валаам, в Кижи и на Соловки — и узнаем о сборе сведений для Белой книги России, в которой рассказано о судьбах новомучеников. В эту работу, как выяснится, вовлечены тысячи людей, о которых не знает никакая социология, и семинар по истории русской церкви ведёт вполне благополучный внешне, даже обласканный властью историк-патриот. Оказывается, есть у диссидентства и это крыло — церковно-патриотическое, и именно с ним в первую очередь сотрудничает писатель Исаич. Разногласия между ним и академиком ещё не вышли на поверхность, но мы их увидим. «Память у нас общая», — примирительно скажет западник на дискуссии «Классика и мы», подпольно организованной на семинаре по Достоевскому в Институте мировой литературы. «Память у нас разная», — отрежет тот самый специалист по Достоевскому, хмурый бородач, не желающий отдавать инородцам дело воскрешения и покаяния. Материалы этой дискуссии попадут, конечно, к Петрову, курирующему работу с интеллигенцией. И Петров скажет: не дай Бог, мы уйдём, — они же все тут перережут друг друга. Это счастье, что сейчас у них есть кого ненавидеть. Коммунисты в последний раз спасли Россию, объединив её ненавистью к начальству. А не будет нас — они же глотки друг другу перегрызут, евреи хоть уедут, а русским куда?
Правдоискательство и муки совести не помешают Петрову распустить в интеллигентской среде слухи о том, что Галесник — провокатор и стукач, иначе его никто бы в Израиль не выпустил.
И когда Галесник будет уезжать наконец, получив разрешение после долгих мытарств, провожать его не придет никто из друзей — все отвернутся. Тактика Петрова сработала. Все считают Галесника информатором, кроме, конечно, Петрова, создавшего эту сплетню. И потому провожать его придет один Петров. А на прощанье поделится страшной тайной КГБ:
— На самом-то деле, по секрету скажу вам, дорогой Натан Моисеевич, никаких стукачей, провокаторов и осведомителей нет. Нет, и всё тут. Я серьёзно.
— То есть как?
— Мы и так всё про вас знаем. Всё-всё, до самого донышка. У нас есть техсредства. Каждое ваше слово записано, каждая встреча зафиксирована, каждый хмык — проанализирован. А стукачи, информаторы — это от нашего стола вашему столу угощение. Это мы вам подкидываем, чтоб вам не скучно было! Только тсс! Никому!
(В действительности сферу интересов так называемой пятёрки — управления КГБ по борьбе с инакомыслием — составляет прежде всего наблюдение за армией. Опаснее всего — ростки сопротивления там. И свои декабристы, из которых выйдет в будущем Валерий Саблин, поднявший в 1974 восстание на «Сторожевом». Это самые бескорыстные, наивные и решительные диссиденты с истинно военной прямолинейностью. Ими-то Петров занимается всерьёз, но промаргивает, знамо дело, с Галесником проще).
…И вот этот же Петров сегодня его встречает.
— Ну что, — спросит Галесник, — у вас, наверное, теперь неприятности?
— У нас не бывает неприятностей, — холодно ответит Петров. — Профессионалы всегда нужны. Не думаете же вы, что всё меняется?
— Нет, — язвительно скажет Галесник. — Не думаю.
— Ну и очень хорошо. Меньше иллюзий — крепче психика. Но добрые отношения с умными людьми нам по-прежнему нужны, поэтому нам есть о чём поговорить.
— Не думаю.
— И не надо. Меньше думаешь — крепче спишь. Пройдёмте.
— Это приказ? — осклабится Галесник.
— Ну что вы. Я вас на своей машине встречаю.
В машине они молчат.
— Кстати, — нарушит молчание Петров, который ведёт машину нагло и очень быстро, но лицо у него при этом каменное. — Если вы думаете, что Нестеров — это мы… Говорю вам с полной ответственностью: это не мы.
Священника Михаила Нестерова зарезали в подмосковном лесу год назад, когда он шёл на службу, и никого, конечно, не нашли.
— А кто?
— Не знаю. И никто не знает. У него, насколько нам известно, и уголовники исповедовались. Даже настоящие воры в законе…
— Отец Михаил был чистейший человек.
— Да бросьте вы! При чем тут? Да, чистейший и честнейший, мы проверяли. Но вообще пора бы знать, что двери храма открыты каждому. Разбойник на кресте покаялся, и был прощён, и первым вошёл в царствие небесное. Совершенно бесплатно.
Они опять молчат.
— А вот насчет всего остального, — говорит Петров, — это да, это мы.
— Насчет чего? — не понимает Галесник.
— Ну… — Петров кивает на плакат «Перестройка — веление времени». — Насчет всего этого.
— А вот теперь вы бросьте! — громко возмущается Галесник. — Сейчас он мне начнёт, как двадцать лет назад, сказки рассказывать про могучие органы, извините за выражение! Которые денно и нощно бдят! Ух! Что ж вы Карабах пробдели? Фергану? Хлопковые дела? Помяните мое слово, Прибалтику вы точно так же пробдите!
— Потому и пробдели, — спокойно отвечает Петров, — что какой-то идиот из ЦК КПСС опять решил «поставить органы под контроль партии». Смешно.
— Нормально, — сказал режиссёр уже несколько более кисло. Он понимал, что я легко и комфортно со всем соглашаюсь, но как-то нету во мне искры, что ли, от которой в нём могло бы возгореться пламя. Я был очень исполнителен, но недостаточно инициативен, и как все кинематографисты, бравшиеся за экранизацию моих сочинений, он уже догадался, что со мной каши не сваришь. Я сам догадываюсь, что со мной каши не сваришь, но до сих пор не знаю, почему. Остается мне утешаться мыслью Музиля (всю жизнь люто завидовавшего Томасу Манну), что для настоящего успеха в произведении искусства должна быть толика пошлости.
— Вам скучно, да? — спросил я сочувственно. Я вообще за то, чтобы всё называть своими именами.
— Да не то чтобы скучно, — признался он, — но не хватает какой-то одной авантюрной линии. Не знаю. Подумайте. Вы же наверняка знаете такую историю.

Иллюстрация: Анастасия Кшиштоф / «Новая газета Европа»
И я её, как ни странно, знал, а главное — её легко было додумать.
И ещё один интересный человек приезжает в Москву в этот зимний день, но Шереметьево не для него. Он официальным транспортом не пользуется. Просто сдвинется канализационный люк в одном из спальных районов, и вылезет на снежную улицу сначала типичный пролетарий, а потом невысокий и очень ладный спортивный человек лет пятидесяти, тоже в одежде типичного сантехника, но неуловимо отличающийся от московских пролетариев. Сантехник будет смотреть на него с уважением, а то и благоговением.
— Ну что, Василь Васильич, — скажет он, — дальше сам?
— Дальше-то я пройду, — кивнет Василь Васильич.
Это легендарный йог и скалолаз, экстремал, экспериментатор, альпинист, «Человек везде», как зовут его на Западе, — Василий Фронин, который с начала шестидесятых мечтал удрать из Советского Союза.
Прославленный, отважный и чуточку комичный экстремал Василий Фронин — фигура очень важная для нашего повествования. И не только потому, что этот персонаж чередой своих приключений прошивает весь сюжет, все три сезона, появляясь в самых, казалось бы, неожиданных местах и связывая, казалось бы, несвязуемых героев.
Это важно, но это не главное. Главное же в том, что Василий Фронин — по сути, гибрид Фёдора Конюхова, Матиаса Руста и Вячеслава Курилова.
Не может быть, повторяет он, чтобы из этой клетки не было хода наружу. Он будет планировать угон самолета — но ему помешает погода, будет тренироваться, чтобы ускользнуть из атлантического круиза, — но корабль изменит маршрут из-за шторма, попытается жениться на иностранке — но иностранка окажется русской проституткой…
Вся его история, лейтмотивом проходящая через наше повествование, будет сопровождаться чередой таких обломов: его параплан унесёт в тайгу, его лодка причалит к берегу советских чукчей, и повезет ему единственный раз — уйти через годы в Албанию, где всё гораздо хуже и строже, чем в СССР. Он улизнёт, конечно, и оттуда — и станет легендой Запада, создателем собственной школы экстремального спорта, его выпускники покорят все вершины мира и научатся без страховки взбираться на любые высоты, но это будет уже в семидесятых и восьмидесятых. Теперь он решил посетить перестроечную Россию — но, разумеется, нелегально, потому что никому не верит.
Ему показалось самым надёжным проникнуть в Москву через канализацию, а улетит он на мини-самолёте собственной сборки, посрамив советское ПВО.
Но это случится только в конце третьего сезона, и именно этот его отлёт будет финалом нашей истории.
— Хорошо, — оживился режиссёр. — Вот это нормально. Чтобы он во всех ключевых сценах вылезал из самого неожиданного места. И одним обламывал вербовку, а другим секс.
— А как же! — горячо согласился я.
— Но понимаете, — сказал режиссёр задумчиво, — была ведь ещё диссида неполитическая. А экономическая, и гораздо более массовая. Фарцевали-то все? Мне кажется, современному зрителю эта часть сопротивления гораздо ближе.
— Ну, это не совсем сопротивление, — уточнил я. — Это довольно комфортная среда. Но если вам так надо — почему нет?
И уже без особенного удовольствия вписал экономическую арку.
Есть в этой истории ещё одна важная линия — Галесник-младший, сын Натана. Он фарцует, как значительная часть московской молодёжи: ходит на знаменитую «Трубу», в подземный переход от «Националя» к «Москве», и выменивает джинсы на русские сувениры. Началось это с первых школьных впечатлений, потому что в классе кипит обменная биржа и всё выменивают на всё.
У Галесника-младшего определенный талант к коммерции. Отец, начисто лишённый этих способностей, регулярно орёт на сына, давая ему понять, что диссидентов могут шантажировать судьбой детей, а в этом они всего уязвимее.
Галесник-старший никогда не понимал, как можно ставить выше всего в жизни материальные интересы и пошлую моду. Всё это он регулярно выкладывает сыну, и тот однажды не выдерживает.
— Папа, — говорит он в тихом бешенстве. — Ты думаешь, что свобода придет через тебя? А она придет через меня!
Через двадцать лет этот прогноз полностью сбудется.
А в том же классе преподаёт один из самых известных словесников Москвы — Анатолий Максимов, молодой выпускник поющего МГПИ, сочиняющий для детей песни и спектакли, водящий их в экстремальные походы. Сам он поступил в пединститут единственно потому, что для него, сына репрессированного, филфак любого университета был закрыт, а в пед брали. В конце пятидесятых, правда, вышли некоторые послабления, но было поздно — он уже преподавал, и даже начал находить в этом своеобразное удовольствие.
А у его любимого ученика есть отец, известный музыкант, пианист и композитор. Любимый ученик часто бывает у учителя в гостях и рассказывает, что у отца тяжёлая многолетняя депрессия. Причины этой депрессии выясняются случайно. Диссидент, сталинский сиделец, в скором времени один из основателей Хельсинкской группы Бершин сообщает Максимову: отец любимого ученика, композитор Лисакович, — стукач. Он лично и сдал Бершина и ещё нескольких друзей, и это несомненно — им зачитывали протоколы, в которых прямо цитируются их слова, которых больше никто не слышал. Один Лисакович. Да и музыку можно послушать, вышла пластинка «Песни Гретхен» — ясно, что ад в душе у человека.
Максимову становится прежде всего интересно. Он навещает Лисаковича, добившись приёма. Перед ним вполне благообразный, тихий, подавленный человек. Поскольку Максимов и сам сын репрессированного, у него к стукачам личный счёт, он не думал, что люди, губившие друзей и сверстников, живут совсем рядом. И ему интересно, как можно оговорить невиновного человека.
— Вам привет от Бершина, — говорит он, ожидая любой реакции вплоть до инсульта. Но того, что произошло, он не ждал.
— Он мне часто приветы передает, — говорит Лисакович совершенно спокойно.
— И вы так меланхолично реагируете?
Входит красавица, жена Лисаковича, стоит у стены, скрестив руки.
— Мы любили одну девушку, она выбрала меня, — говорит Лисакович. — Он решил отомстить и мстит вот так.
— Но ему зачитывали протоколы…
— Бершин никогда не скрывал своих мыслей. Он говорил опасные вещи направо и налево. Его самого считали провокатором. Но он не провокатор. Он просто дурак.
— Извините, но я в такое поверить отказываюсь, — говорит Максимов. — Он человек большого мужества и честности. И я всем, кому смогу, буду рассказывать о вашем предательстве.
— Это ваше дело, — спокойно отвечает Лисакович. — Но смотрите, как бы вам самому не пришлось оказаться на моём месте.
— За это можете не беспокоиться, — говорит самоуверенный Максимов. И, конечно, ошибается — потому что, когда он не вышел на известную демонстрацию, о нём распустили ровно такой же слух. Он придет тогда к Лисаковичу, но тот после удара лишится речи и будет только кивать, причем неясно, понял он что-нибудь или нет.
А вот любимые ученики от Максимова отвернутся. Они уже начали понимать, как это легко — отворачиваться.

Иллюстрация: Анастасия Кшиштоф / «Новая газета Европа»
— Ну допустим, — сказал режиссёр. — Хотя я не очень понимаю, зачем вам вся эта история с Бершиным.
— Его звали Локшин, — уточнил я. — Я вам скажу, зачем. Понимаете, я ведь сам сегодня варюсь в этой же среде. И там все про всех говорят: такой-то продался, такой-то сотрудничает… Это вообще самое актуальное, что может быть для сегодняшней ситуации в тогдашних разборках.
— И что, — заинтересовался режиссёр, — про вас тоже говорят?
— Не знаю, — честно ответил я. — Лично мне не говорят, а что там за спиной — я понятия не имею. Но вообще, мне кажется, важно показать, что среда уже в достаточной степени гнилая. И с той, и с другой стороны. Вы же понимаете: в подполье можно встретить только крыс, как говорил генерал Григоренко…
— Какой-какой генерал? — переспросил режиссёр. — Настоящий боевой генерал?
И я подумал, что без этой арки разговор опять-таки получится неполный.
Существенную роль в нашей истории будет играть Пётр Рыгоренко, боевой генерал с военным опытом, который и думать не мог, что ему предстоит стать инакомыслящим. В партию он вступил в двадцать седьмом, окончил Военно-инженерную академию, прошёл войну, неизменно получая одну и ту же характеристику:
лично смел и решителен, но с подчинёнными слабоволен, в подразделениях хаос. Он и в самом деле ничего не хотел добиваться криком и руководил без мордобоя.
Он осмеливался возражать Жукову и критиковать его, и именно Жуков препятствовал его карьере: Рыгоренко оставался преподавателем тактики в военной академии, долго не мог защитить докторскую, а в начале шестидесятых, видя формирующийся культ личности Хрущева, начал об этом говорить на лекциях. Ветерана с пятью орденами неловко было арестовывать, война уже была скрепой — и Рыгоренко отправился в психушку, где его признали невменяемым.
Там, кстати, к нему относятся вполне уважительно. Врачу есть о чем с ним повспоминать — он тоже воевал. Генерал не получает инъекций, его не травят таблетками.
— Я только не понимаю, — спрашивает врач, — вы, может быть, действительно немного… ну, что уж там… не можете же вы не понимать…
— Я другого не понимаю, — говорит Рыгоренко. — Почему мы врага не боялись, а вот этих, из СМЕРШа, — боялись? Почему я их до сих пор боюсь?
— Это как раз просто, — говорит психиатр. — Чего хочет враг — мы более или менее понимаем. А вот чего хотят эти — лично я сказать не возьмусь.
Перед генералом раскрывается широкая панорама коллективного сумасшествия. В психиатрической клинике, где его содержат, есть и доносчик с манией сутяжничества, регулярно пишущий на всё и на всех, и чудесно спасшийся Берия, уверяющий, что он хотел всем только добра (правда, совсем не похож на оригинал, но утверждает, что ему сделали пластическую операцию). Но есть один вполне здравомыслящий человек, уверенный, что Комитет Государственной Безопасности — прямые наследники не только Третьего Отделения, но и опричнины. Это историк, пишущий глобальный труд о русской тайной полиции. Находиться в психушке он даже рад — это для него самое безопасное место. В его картине мира КГБ — воплощение дьявольских сил, превратившее Россию в некое подобие улавливающего тупика: здесь гибнет любая идея, погибнет и коммунистическая.
Тормоз мирового развития — именно Россия, иначе катастрофа неизбежна. Разговоры с этим сумасшедшим при участии врача сильно влияют на психику Рыгоренко, и он вынужден признать в этой версии определённый здравый резон.
Он выписался, получил инвалидность, устроился работать грузчиком. Написал мемуары, в которых попытался рассказать известную ему правду о войне. Стал распространять их и познакомился на этом с молодёжью, в кругу которой неожиданно встретил уважительный интерес. Он требует, чтобы его не берегли, вовлекали в митинги и в распространение «антисоветской литературы». Генерал — довольно своеобразный подпольщик, сочетающий абсолютную бескомпромиссную храбрость с наивностью, доходящей до глупости. На диссидентских собраниях он говорит много дельного, но ещё больше смешного. Его воспринимают как деда Щукаря. Незадолго до собственной смерти, когда с работы выгоняют его сына, он впервые задумывается — и разочаровывается в любом правдоискательстве.
— Чего нам всем надо? — говорит он. — Был бы я нормальный офицер, всё для этого было… Куда мы молодых тянем? Плетью обуха не перешибут. Сам себя погубил и сыну жизнь испоганил…
Эта эскапада вызывает в кружке московской молодежи долгую дискуссию о том, что народу никакое инакомыслие не нужно. «Вот он, народ — Рыгоренко! Ровно такой, как о нём думают: своя рубашка ближе к телу. И даром ему не нужна никакая свобода».
Но на демонстрацию по случаю ввода войск в Чехословакию опустившийся и постаревший Рыгоренко выходит вместе со всеми. И ему безмолвно уступают место в строю, потому что запретить человеку подвиг, хотя бы и самый бессмысленный, не может никто.
— Понимаете, — раскололся наконец режиссёр. — Я действительно всё никак не чувствую главного, ради чего это стоит снимать. Я думал, вы мне подскажете, но вы, судя по всему, сами не знаете. Я хочу, чтобы это было кино про героев. Про победителей. Я даже хочу назвать его «Победители».
— Сейчас вам никто не даст такое снимать, — предупредил я на правах старшего товарища.
— Я же не про сейчас, — поморщился режиссёр. — Это год писать, потом год готовиться и искать деньги… А через два года, поверьте, будет самое время это снимать. Сейчас всё ускорится, не знаю, как именно, но ускорится очень сильно.

Иллюстрация: Анастасия Кшиштоф / «Новая газета Европа»
— Мне не кажется, что они победители, — сказал я осторожно. — Мне кажется, они были порождением сложной системы, такой перегретой теплицы, потом они, как пальма, эту теплицу разрушили — но могли существовать только в ней. И никакие они не победители, они победили в конечном итоге только самих себя.
— Ну что вы! — не поверил режиссёр. — Я же смотрю на своих родителей, они явно победили! В 1991 году Россия стала свободной. Стала страной, из которой можно уезжать и в которую можно возвращаться без собеседований в райкоме партии или прыжков с борта круизного лайнера. Страной, где каждый может читать, смотреть, писать, издавать и выставлять, что ему угодно. Страной, где каждый может заниматься бизнесом — то есть страной со свободной экономикой — а значит, с полными прилавками. И при всех вопросах и оговорках, Россия политически примерно в миллион раз свободнее, чем СССР.
— Вы просто ещё не видите, — сказал я. — И не дай вам бог увидеть. Поймите, что вместе с диссидентами победили и гэбисты, прокуроры, милиционеры, следователи, которые за ними прилежно охотились. Петров и его коллеги-гэбисты (или шире — силовики) тоже победили советские порядки. Поскольку сейчас в России они обладают огромной властью и возможностями, несравнимо большими, чем в Советском Союзе. Кроме того, они обладают и экономическим могуществом, да таким, которое в СССР им присниться не могло. Советский Союз, знаете — он был вроде старой училки, которая была, конечно, дура и авторитарий, и ходячий анахронизм. Но она по крайней мере пыталась сдержать натиск шпаны. В 1991 году училку убрали на пенсию. И больше отличников защитить некому.
— Но если вся эта система была настолько гнилой, — сказал режиссёр, — то, может, туда ей и дорога?
— Наверное, — согласился я. — Людей только жалко.
— Но зато эта система, — сказал режиссёр, — дала этим вашим Галеснику, Царенко, Рыгоренко — прожить свои лучшие годы достойно и почувствовать себя людьми, нет?
Я и с этим согласился. Но всё-таки… всё-таки, понимаете, попробовал я объяснить ему, это всё было довольно второсортно, включая разнузданный секс. И могло существовать только в той системе. И начисто потеряло смысл, как только она исчезла. Сегодня всё вот это — декабристы, авторская песня, интеллектуальное кино, младшие научные сотрудники, котельные, Окуджава и Эйдельман, — сегодня всё это не работает, всего этого недостаточно, это имело смысл только в душных семидесятых. Я очень хорошо всё это помню, все эти горящие зимние окна и полупустые вечерние улицы, по которым все уютно спешат с работы, на которой уютно ничего не делали.
Всё это был пряничный домик, и когда он рухнул — все мы остались наедине с адом.
— Вот! — сказал режиссёр. — Вот это и попробуйте объяснить в финале. А то финала, честно говоря, пока нет.
И я со спокойной совестью внутренне отказался от этой работы. Мы договорились ещё раз встретиться, но без особенного энтузиазма. Ведь финала действительно нет, или, по крайней мере, он не просматривается.
24 февраля я проснулся в три часа ночи от непонятного толчка, — как всегда просыпаюсь в нужное время, — заглянул в айфон и понял, что финал у меня есть.
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.
Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]
Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».