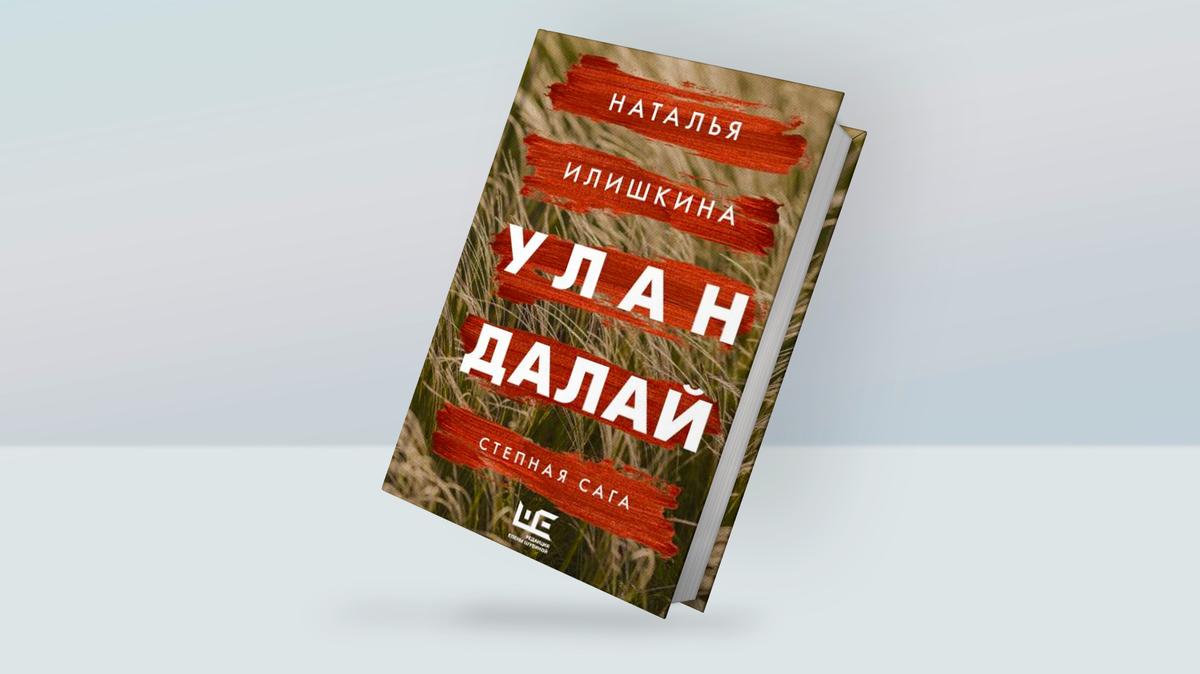«Красный океан» — так звучало бы на русском языке название романа Натальи Илишкиной, выпущенного «Редакцией Елены Шубиной». В калмыцкой мифологии этот образ символизирует ад. «Улан Далай» — сага о судьбах трех поколений семьи Чолункиных и шире — донских калмыков-казаков (бузавов), написанная с глубоким знанием национальных традиций, с опорой на архивные материалы, воспоминания очевидцев и их потомков.
В историю семьи и народа неизбежно вторгается история глобальная — тем более что мало эпох могут сравниться по масштабу потрясений с первой половиной ХХ века. Русско-японская, Гражданская, Первая и Вторая мировые войны, революция 1917-го, голод начала 1920-х и начала 1930-х, коллективизация, сталинский террор и депортации народов — цепочка катастроф протягивается через всю книгу. Захваченные этим вихрем, герои пытаются устроиться в новой реальности, выжить и найти ответы на свои вопросы — в том числе на главный: в чем глубинные причины несчастий, постигших их самих и страну, так храбро устремившуюся к солнечному коммунистическому будущему?
«Улан Далай» можно назвать романом фрагментов. Так, действия 24 главы происходят в декабре 1948 года, 25-й — 6 марта 1953-го, а заключительной 26-й — в июле 1957-го. Первая же глава (ощутите размах) — в далеком мае 1884-го. Илишкина собирает книгу из эпизодов — узловых событий или, наоборот, характерных моментов, отразивших в себе целый период. Пробелы же остаются на откуп читателю. Впрочем, додумать их несложно, и, вопреки структуре, роман выглядит на удивление цельным. Еще один прием, впрочем, типичный для семейной саги, — смена главного героя. В трех частях в центре внимания последовательно оказываются молодой табунщик и джангарчи (рапсод, исполняющий калмыцкий эпос «Джангар») Баатр, его средний сын Чагдар и внук Иосиф, названный в честь известно кого, но вскоре меняющий имя на Александра.
«Улан Далай» начинается драматичным прологом — сценой в поезде, на котором героев депортируют. Эта стартовая вспышка привязывает читателя к тексту и позволяет Илишкиной в дальнейшем развивать сюжет неторопливо. Первые сто страниц — размеренное, отчасти даже пасторальное повествование с семейными встречами, буднями табунщика, детальным описанием традиционной свадьбы и множеством подробностей, приоткрывающих обычаи и мироощущение бузавов.
Да, в это время родители Баатра умирают от холеры, а его старший брат погибает на войне, однако для читателя они — незнакомцы, чужие люди, чьи несчастья не цепляют всерьез.
Но затем привычный мир начнет трещать по швам. Гражданская война раскалывает семью. Старший сын Баатра, ветеран Первой мировой и гордый обладатель Георгиевских крестов, Очир уходит воевать за белых. Сам Баатр помогает большевикам. Его младший сын Дордже, обучавшийся в хуруле (буддийском храме), всецело погружен в веру, что для революционеров неприемлемо. Средний же, Чагдар, защищая отца, оказывается на стороне красных и сражается под командованием Будённого, в глубине души страдая из-за того, что в бою может столкнуться с братом. Описание Гражданской войны позволяет Илишкиной создать галерею выразительных портретов — от документального образа просвещенного публициста Харти Канукова до неистовой Маруси-анархистки или головореза-шовиниста Коваля. Здесь будет страшная сцена массового убийства безоружных калмыков, воевавших за белых («Секи калмычков, ребя! Они точно виноватые! И бог за них не накажет!»). Чагдар вступится за них, но сумеет ли остановить разъяренных однополчан? Появится и Москва со знаменитой Филипповской булочной и новыми диковатыми жильцами брошенных модерновых особняков. Годы потрясений она переживает благополучнее регионов, чем, пожалуй, напоминает нынешнюю.
После гражданской войны семья воссоединится, но сумеет ли найти общий язык? Очир вернулся в родные края из белой эмиграции, но теплыми чувствами к большевикам не проникся. Чагдар же идет «по партийной линии» и становится местным чиновником. Вскоре жизнь поставит перед ним самые суровые вопросы, предложит организовывать в регионе преступную коллективизацию, бороться с кулаками и выступать с обличительными речами против собственных товарищей. А потом в списке «врагов» обнаружится и его фамилия. Останется ли выбор тогда? У Очира будут свои драматичные дилеммы. Приближаются гитлеровские войска, среди которых хватает калмыцких белоэмигрантов. Может быть, стоит помочь им избавить страну от ненавистной советской власти? Гораздо позже сыну Чагдара Иосифу-Александру тоже придется выбирать. У него появится редкая возможность отомстить всем обидчикам своей семьи. Но стоит ли ею пользоваться?
Служение царю. Война. В эти три слова умещается нехитрый смысл жизни калмыцких казаков. У бузавов принято знать 7 колен предков. Когда маленький Баатр перечисляет своих, выявляется пугающая закономерность:
прадед сражался в Крымской, прапрадед погиб от французской руки под Москвой, прапрапрадед участвовал в разделе Польши при Екатерине II, до этого — Персидская война и Азовские походы Петра Великого.
Жаль только, нынешний, прозванный «миротворцем», царь не дает казакам прославить род доблестью. Но старший брат Баатра всё равно готовится, и не напрасно. Вскоре ему действительно посчастливится отдать очередную «жизнь за царя». Персонажи книги — потомственные государевы люди: «На то казак и родился, чтобы царю пригодиться». А рассуждать, например, о смысле войны с неведомыми японцами — не его казачье дело. Бурхан-бакши (Будда Гаутама у монголов) призывает к смирению, однако мириться с дурным соседом Баатр вовсе не намерен, зато «перед властью, перед старшими — это да, смириться надо».
Такое мировоззрение, конечно, одна из причин, по которой герои книги в большинстве своем безропотно терпят антинародные проекты советской власти — вроде коллективизации, а Чагдар служит ей верой и правдой (атеизмом и «Правдой»). Иногда подозрения у него закрадываются — но только не относительно Сталина, которому он дважды попытается написать разъяснительное письмо о делах на местах. Впрочем, есть и другая причина — религиозная. Одно из военных приключений Чагдара — поездка в цветущую суевериями Монголию с целью ликвидировать бандита, создавшего религиозно-магический культ самого себя. Для многих местных жителей такой подход куда понятнее туманного коммунизма. Вскоре выяснится, что монголы, вешающие портрет Ленина в буддийских храмах, в этом смысле не исключение. У великороссов Ильич займет положенное место в красном углу. По наблюдению одной из героинь, теософки Ираиды Степановны, Сталин пытается подменить духовный Абсолют. Самому же Чагдару усатый самодержец-громовержец привидится в образе бога смерти Эрлик-хана: «Ему молятся, а он уничтожает вражеское племя и семя. И он один знает, в ком кроется враг».
Самодержавие и религия (а еще патриархальные семьи, которых в книге немало) совместными усилиями невольно подготовили почву не для демократов-кадетов или анархистов, но как раз для большевиков. Последние охотно залили молодое красное вино в старые меха — поместили марксизм-ленинизм в иерархичную модель и определенную ею картину мира. И как раз иерархичная модель (а не левая идея), доведенная до крайности, породила чудовищные преступления власти и «тюрьму (всех) народов». Иными словами, проблема часто заключается не в идеалах, а в куда более устойчивых мировоззренческих моделях. В справедливости этой нехитрой мысли пришлось убедиться большинству постсоветских стран, одолевших коммунизм лишь для того, чтобы лечь под фундамент новой авторитарной пирамиды.
Может быть, самая страшная формулировка в романе звучит из уст ребенка-спецпереселенца: «Мы не враги (народа)! Мы трудовые ресурсы!»
Сложно вспомнить, кто первым озвучил очень точную мысль, что Сталин и его верхушка осуществили колонизацию собственного народа, то есть действовали фактически как оккупационная власть. В романе эта формулировка, конечно, не звучит, хотя образ возникает именно такой. Вольнодумец Очир заявляет Чагдару, что его партия превращает граждан в «батраков» и «крепостных», обернувшись всеобщей «помещицей», а выселенцев ведут под конвоем так, как еще недавно «вели… мимо хутора пленных фашистов». Постепенно превращающийся в мудрого старца Баатр, который в юности мечтал повоевать «за царя», объясняет внуку почти анархистскую истину: «Власть — она всегда против людей, в какие бы одежды ни рядилась. Запомни это».
Не менее выразительным оказывается и сам «стиль» сталинской власти, который отчетливо виден в выполняемых чиновником Чагдаром поручениях. Совершенно абстрактный, взятый с потолка план спускается центральной властью, и дальше каждый гражданин, все сельскохозяйственные животные, почвы и явления природы обязаны беспрекословно ему подчиниться. Трехмерные обитатели края в едином героическом усилии должны сплющить себя, стать двухмерными жителями красивой картинки, написанной кремлевскими живописцами-примитивистами. Если не получается, ничего страшного. Скоро придут подмастерья из НКВД и окажут посильную помощь. В обедневшем поселении донских калмыков не осталось ни одного кандидата на раскулачивание? Надо искать лучше — план исключений не предусматривает. Кулаками в селе оказались сплошь украинцы? Возмутительный националистический перекос. Нескольких придется заменить на казаков и великороссов.
Показательно, что Чагдар, отвечающий за «земледельческий» (по плану) Сальский округ, вопиюще некомпетентен в сельском хозяйстве. Когда же он в силу добросовестности разбирается в вопросе, то обнаруживает, что почвы региона вообще не приспособлены для земледелия. Но отгонного животноводства, которое всегда здесь практиковалось, план не предусмотрел. Да и скот уже загублен небрежным отношением в колхозах. План руководства, как известно, привел страну к чудовищному голоду 1932–1933 годов (в т. ч. Голодомор в Украинской ССР, Ашаршылык в Казахской ССР). А в 1937-м Чагдар сам окажется фигурантом кремлевского замысла: «План из Москвы спустили большой… Сто человек на расстрел, триста — в лагеря. Но прокурор наметил перевыполнить по обеим позициям». Может быть, наиболее точно сталинский «насильственный абстракционизм» характеризуют слова врача в отделении для психохроников, куда Чагдар привозит религиозного брата Дордже, чтобы сделать ему защитную справку шизофреника.
«Он потерял связь с реальностью», — говорит Чагдар, и слышит в ответ: «Ну, уважаемый, потеря связи с реальностью — норма для нашего времени…»
Людей, у которых есть привычка, читая книгу, конспектировать наиболее существенные моменты, «Улан Далай» наверняка обхитрит. Короткий спор в романе может оказаться важнее ухода героя на войну или получения похоронки. Чуть выше упоминался вскользь конфликт Баатра с соседом. Тогда он всецело поддерживал идею отмщения. Через несколько лет Гражданская война для Чагдара тоже начнется с мести. Ссора хуторского бакши с Баатром чуть не обернется коллективной расправой над последним. Тогда Чагдар вывезет его к красным и решит — теперь он «на стороне тех, кто воевал против врагов его отца».
Тема гражданской войны, пожалуй, центральная в книге. Она начинается задолго до военной междоусобицы и продолжается после. Так, калмыки считаются, кто из какого улуса, кто торгут, кто дервюд, а кто бузав, и постоянно устраивают друг другу неприятности. В селе, где рядом живут казаки, великороссы и украинцы, молодежь то и дело дерется стенка на стенку, разбившись «по нациям». Личные счеты сводят, разумеется, с помощью доносов. Когда Чагдар с отрядом чекистов приходит раскулачивать некоего Коваля, «приватизировавшего» чужой дом еще в 1920-е, он обнаруживает того самого боевого «товарища», призывавшего «рубить калмычков». Его семью Чагдар спасет (сильный авторский ход — показать коллективизацию и репрессии через поступки, в общем-то, нормального и искреннего человека системы), но самого отправит на расстрел, отомстив таким образом за погибших земляков. Арестованный Коваль будет, как и прежде, проклинать «нерусь» и московских «еврейцев».
Постепенно становится ясно, что Гражданская война не закончилась в 1920-е. Она затаилась в израненном обществе, стала своего рода хронической болезнью, а Сталин просто воспользовался этим и активировал ее в иной форме — через государственное насилие. «Если встаешь на путь мести, приготовь две могилы: для врага и для себя», — скажет ближе к концу помудревший Баатр. Месть убивает сразу двоих. Тот, на кого она нацелена, в восприятии мстителя перестает быть человеком, становясь абстрактным «врагом». А мститель, как всякий, ослепленный страстью, оказывается только оружием в ее руках и теряет свою субъектность. Когда власть превращает живого гражданина в государственную единицу — это, конечно, совсем невесело. Но куда страшнее — если граждане соглашаются с навязанной ролью и становятся абстракциями друг для друга. Из недоверчивых, испуганных и ожесточенных «врагов» (как и из «трудовых ресурсов») никогда не получится общества, способного к самообороне. Это лишь толпа одиночек, когда прячущихся от силы, а когда примыкающих к ней, чтобы обезопаситься и разобраться с неприятелем-ближним.
Так роман поднимает очень важный вопрос и для современной России, и для неясной России будущего. В постсоветских странах много говорили и писали о национальной идее. В казахстанской публицистике, например, эта тема до сих пор — одна из главных. В России же, пошумев в 1990-е, она постепенно сошла на нет — растерялась и сдалась перед разнонаправленными общественными силами. Нужна ли национальная идея вообще — вопрос открытый. Однако безусловно необходим народный консенсус относительно общего прошлого — не единообразие мнений, но взаимопонимание между людьми с разными позициями, которому, конечно, не способствует радикализм. Этот консенсус — шаг к коллективному осмыслению и примирению с прошлым, а еще к формированию гражданской нации и общества субъектов, могущих ответить на объединяющий вопрос «Кто мы?», способных к сопереживанию, солидарности и защите своих интересов.
Для книги Натальи Илишкиной тема прошлого очень важна. Не случайно скрывающийся от ареста Чагдар находит убежище в полузаброшенном буддийском дацане, а джангарчи Баатр и Дордже, отмаливающий грехи соплеменников перед бурханами, так трепетно относятся к традициям. Они способны хотя бы ненадолго объединить разобщенных калмыков и сохранить связь с прошлым, жестко отрезанным большевиками. Разрыв 1990-х, как выяснилось, тоже оказался слишком резким, и вновь расколол уже расколотое общество на «совконенавистников» и «ностальгирующих реваншистов». 2022-й — очередной болезненный разрыв. Сейчас, пожалуй, это не самая приятная мысль, но когда-нибудь после чьей-нибудь победы кому-то всё равно придется остановить машину мести и работать над примирением. До этого момента, впрочем, еще далеко. А пока остается только не усугублять разрывы там, где это возможно.
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.
Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]
Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».