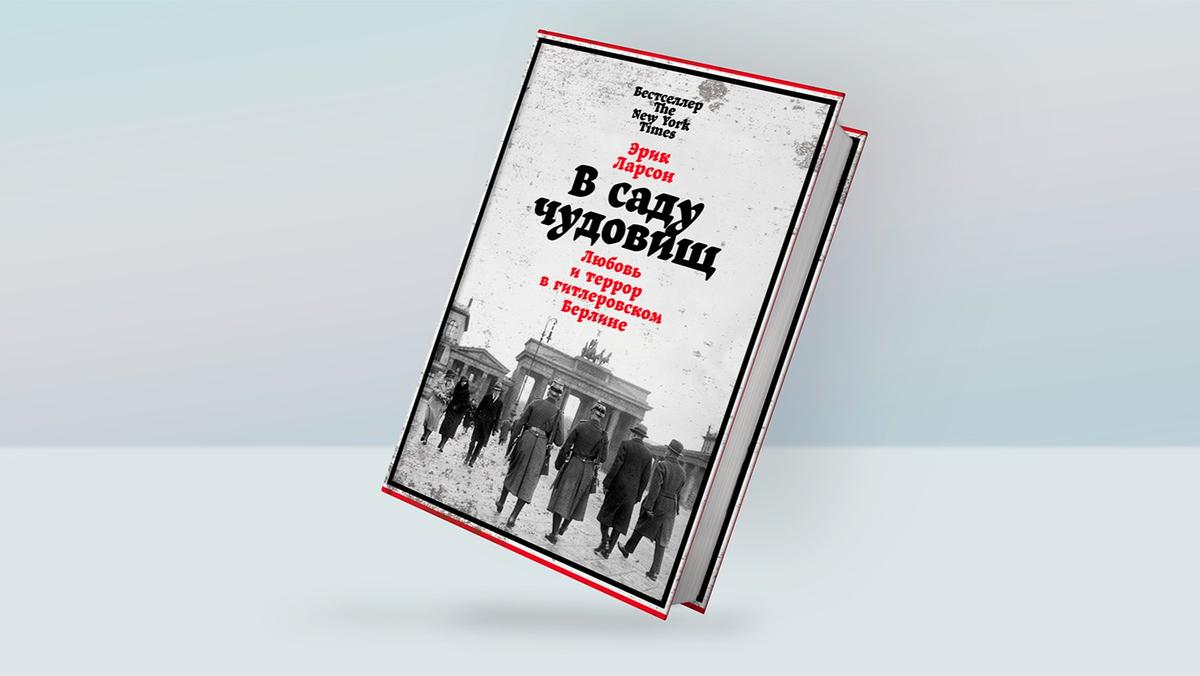Роман «В саду чудовищ. Любовь и террор в гитлеровском Берлине» вышел в США в 2011-м. Тогда книга выглядела любопытным погружением в болезненное, но отдаленное прошлое. Перевод на русский появился в 2014-м. Звоночки уже были, однако телефон, кажется, стоял на беззвучном режиме. И вот в 2022 году документальный роман Эрика Ларсона вышел опять. В новом переводе. И не просто с английского на русский — еще и на «русский военного времени», где и «террор», и «Берлин» на обложке читаются иначе, чем раньше. Болезненное прошлое сократило дистанцию. Из интересной книга превратилась в актуальную.
«В саду чудовищ» — история о наступлении тоталитаризма. Ночь длинных ножей и Мюнхенский сговор еще впереди. Гитлер стал рейхсканцлером совсем недавно и стремительно укрепляет власть. Но почему он сумел добиться своего так легко, а общество и иностранные политики не распознали угрозу вовремя? Это, пожалуй, главный вопрос книги. Она могла бы быть превосходным учебником молодого диктатора — так подробно в ней описаны методы нацистов. Впрочем, такой учебник не хуже справляется и с обратной задачей: он помогает понять тоталитаризм, а значит — хотя бы отчасти от него защититься.
«В саду чудовищ» — роман без вымысла. Все его герои реально существовали, а их поступки и наблюдения воссозданы по дневникам, письмам и другим архивным материалам.
Этим он напоминает детектив — финал, в общем-то, известен. Но что и каким образом его определило? С этим предстоит разбираться сыщику, а заодно и читателю.
В центре сюжета — судьба историка и убежденного демократа Уильяма Додда. Эта судьба сыграла с ним сразу несколько злых шуток. Додд подыскивал непыльную работу — хотел воспользоваться излишком свободного времени, чтобы закончить многотомный научный труд. Предполагалось, что именно ее он получит вместе с должностью посла в Берлине. Специалист по «старому югу» США оказался заброшен на «новый европейский север». И в истории остался совсем не историком, а «Кассандрой американской дипломатии».
В Германию Додд приехал с семьей. Присутствие жены и сына в книге почти незаметно. Зато дочь, начинающая публицистка и опытная светская львица Марта, часто оттесняет отца на второй план. И это не удивительно. Ее общение с оппозиционной интеллигенцией и романы с главой гестапо Рудольфом Дильсом, пресс-секретарем НСДАП Эрнстом Ханфштанглем и советским послом, агентом КГБ Борисом Виноградовым показывают жизнь Берлина начала 1930-х не хуже, чем дипломатические встречи.

Автор книги «В саду чудовищ. Любовь и террор в гитлеровском Берлине» Эрик Ларсон. Фото: Wikimedia
«В саду чудовищ» — книга о трансформации немецкого общества и Германии, но не только. Приехавший в Берлин Додд, как и многие его соотечественники, недооценивает «проблему Гитлера». Он убежден в том, что разум просто не может не восторжествовать, настроен вести себя дипломатично и готов к неприятным компромиссам. Марта и вовсе поначалу воодушевляется драйвом «германского возрождения»: «Возбуждение, охватившее людей, было очень заразительным, и я «зиговала» не менее страстно, чем самый рьяный нацист… Я чувствовала себя как ребенок, меня переполняли энергия и беззаботность, новый режим пьянил меня, как вино». Но встреча с «непарадным», подлинным нацизмом вынудит героев попрощаться с иллюзиями. Роман Ларсона — еще и об их внутренней трансформации.
Внешность тоталитаризма обманчива. Середина 1933-го. Гитлер пришел к власти несколько месяцев назад, но успел разгромить коммунистов и социал-демократов, ввести ряд репрессивных законов и ужесточить преследования евреев. Тысячи противников режима уже были в концлагерях или за границей, а гестапо получило право «защитного ареста»: если государство считает, что вы представляете для него опасность, оно может законно вас арестовать и далее распоряжаться вашей жизнью по своему усмотрению (разумеется, в интересах народа. Как иначе?!). Всё это уже было. Но Берлин, в котором оказалась семья Додд, совсем не похож на город из страшной тоталитарной сказки. Он выглядит нормально. Бурлит обычная столичная жизнь — краски, шум, суета. Всё как положено.
Доброжелательные берлинцы коротают вечера на террасах кафе с вином и сигарами. Выгуливают новые наряды. Блещут остроумием. И кажется: это иностранная пресса всё преувеличила, а убежавшие — они просто испугались, не поняли.
У страха известно какие глаза. Совсем скоро все вернутся и еще будут неловко посмеиваться над своим бегством. Надо сказать, кое-кто действительно возвращался.
В романе Ларсона есть любопытная сюжетная ветка. Журналист Кальтенборн, приехавший в Германию из Штатов, встречаясь с главой американского консульства, постоянно упрекает его в преувеличении опасности Гитлера. И, конечно, намеревается рассказать на родине правду — нарисовать нормальный Берлин, увиденный собственными глазами. Его план наверняка воплотился бы в жизнь, если бы незадолго до отъезда его сына не избили нацисты…
Туристический фасад германской столицы по-прежнему восхищал иностранцев. Но за этим фальшфасадом незаметно строилось новое, совсем другое здание. Любопытно, что в книге дважды упоминается малоизвестное эссе министра пропаганды Геббельса. Там он бичует пороки общества, обрушиваясь на быт торговой улицы Курфюрстендамм, — той, которая особенно нравится Марте Додд: праздничной, кипучей и олицетворяющей обычную городскую жизнь. И кажется, этот повтор у Ларсона не случаен. Он как будто намекает на какую-то болезненную ненависть к живому существу и его естественной среде обитания. Жизнь остро нуждается в исправлении. Нужно ли перестроить ее в строгом соответствии с идеей или важнее безоговорочно подчинить — не это главное. Главное, чтобы жизнь не сопротивлялась. Этим и занимались нацисты в Берлине, не подозревающем о масштабах подступающей беды: унифицировали, подчиняли всех и всё идеологии, не боясь выкидывать из своей системы тысячи лишних винтиков.

Берлинское кафе, 1940 год. Фото: ullstein bild / Getty Images
Интересны главы, в которых Ларсон размышляет о тайной полиции. «Гестапо считалось всеведущей и способной на любое злодеяние службой…» — миф о ее всесилии, возможно, и был главным оружием в деле порабощения общества. Телефон могли прослушать, переписку — прочитать, во время «нехорошего» разговора поблизости мог оказаться тайный агент, да и старые добрые доносы никто не отменял. Невольно вспоминается образ идеальной тюрьмы-паноптикума, описанной английским философом Бентамом. Камеры со стеклянными перегородками расположены по кругу, и единственный стражник в центре может наблюдать за всеми сразу. В мозгу у каждого заключенного поселяется страх: «А вдруг он сейчас следит именно за мной?» И дальше действует магия самоцензуры, способная любого превратить в покорного. Другие камеры — те, которые распознают лица, — подходят не хуже. Как и подконтрольные соцсети: никогда не знаешь, какой пост окажется последним.
Второе необходимое условие — невидимость надзирателя. И речь, конечно, не только о засекреченных операциях и источниках информации гестапо. Еще и о праве на произвол: кто угодно мог быть взят под «защитный арест» за что угодно, если государство почему-то решило, что он чем-либо опасен. Ты уже преступник. И закон обратную силу имеет. Особенно если закон — переменчивая воля фюрера и его услужливых царедворцев.
Нацистская власть имела неплохое психологическое чутье, создавая идеальные условия для самоцензуры. Это как в серии «Масяни» про доппельгангера: «Половина лежит, половина сторожит». Только каждый — сам себе надзиратель; и соседям, конечно, тоже. Герои Ларсона наблюдают за постепенным разрушением общества, помещенного в нечеловеческие условия: «Люди начинали иначе относиться к выбору сотрапезников за ланчем, а также кафе и ресторанов, которые посещали, потому что ходило множество слухов о том, что некоторые заведения были излюбленными мишенями агентов гестапо.
На улице, поворачивая за угол, берлинцы немного задерживались, чтобы проверить, не идет ли за ними кто-то… У берлинцев также вошло в привычку при встрече на улице с другом или знакомым быстро оглядываться по сторонам.
Это был так называемый немецкий взгляд». Хотя семья дипломата Додда находилась в большей безопасности, чем рядовые граждане, всепроникающий страх не обошел стороной и ее: «Каждый раз, когда нам хотелось поговорить, мы заглядывали за углы и за дверь, проверяли, не слишком ли близко стоит телефон, и говорили шепотом». В книге приводится и ночной кошмар, приснившийся одному немцу. С обыском пришло гестапо, и вдруг домашняя печь заговорила и стала пересказывать все опасные беседы жильцов, которые слышала. Диснеевский мульт «Красавица и чудовище» — только в чудовищных реалиях Третьего рейха.
Расколотое недоверием и страхом общество не способно к сопротивлению. Для того чтобы сплотиться, нужно хотя бы поговорить с соседом — но вдруг он донесет? Одна из излюбленных метафор Гитлера — сжатый кулак. Им он и бил по своим гражданам — сломанным пальцам, давно отчлененным от ладони. Единственная сила, к которой можно было примкнуть, чтобы почувствовать себя в безопасности, — государство. Разобщение и террор — не только эффективное средство борьбы с инакомыслием. Это еще и отличный способ вербовки сторонников. Театральный эффект нацистских шествий отчасти был обусловлен энергией толпы, готовой принять маленького перепуганного человека. К сожалению, печально известной нацистской пропаганде в книге Ларсона уделено совсем мало внимания. Но со всей очевидностью прослеживается ее логика: Гитлер — это и есть страна. Он наделен особым «шестым чувством диктатора», и именно оно помогает ему расслышать голос глубинного народа. В пугающей тишине.

Фото: Berliner Verlag / Archiv / picture alliance / Getty Images
Весь этот арсенал пыточных инструментов, в общем-то, вполне известен. Но есть и еще кое-что. Неожиданное оружие. Ларсон, описывающий всё разнообразие приемов порабощения, рассказывает, что иногда в Германии наступало своего рода затишье: «Нападения нацистов на евреев были как летние грозы, когда тучи внезапно сгущаются и так же быстро рассеиваются, оставляя после себя странное, зловещее спокойствие». Впрочем, тогда на смену погромам приходили более изощренные и не столь заметные способы выдавливания из жизни: невозможность работать, вступать в браки с арийцами или сидеть с ними на одних лавках. Когда волна насилия затихала, людям казалось, что власти одумались и отходят от террора. Можно подумать, что эта иллюзия нормализации была нужна Гитлеру, чтобы до поры сохранять терпимые отношения с другими странами — теми самыми, которые пытались его «умиротворить». Но дело не только в этом. Тотальный террор может поставить человека в ситуацию, когда ему нечего терять. Опасно: так и до революции недалеко. Возможно, это одно из самых страшных оружий тоталитаризма — надежда. Вечное и необходимое человеческое чувство, которое, как выясняется, тоже можно извратить. Люди надеются, что террор их не коснется, что власть одумается и отмотает всё назад — к нормальной жизни. Может быть, поэтому так важны эпитет «частичная» перед «мобилизацией», уверения в соблюдении законности и миролюбивые речи: вот уже почти всё — всех набрали. Свертываем призывные пункты — живите. Прилетел Дракон, съел половину детишек, наелся и обещал больше не прилетать. Ну как не понадеяться, что он сказал правду?
«В саду чудовищ» — это еще и галерея интересных героев. Портреты времени. Американский журналист Моурер внедрился в Третий рейх и практически в одиночку ведет борьбу с режимом, вопреки попыткам Гитлера выдворить его из страны. Или советский посол, агент КГБ Борис Виноградов, блещущий чувством юмора и манерами. Действительно ли он влюблен в Марту Додд? Может быть, просто талантливо вербует дочь посла США? Опасная игра — совсем немного времени осталось до 1937-го. Другой любовник Марты, глава гестапо Дильс, как выясняется, не только мастер вызывать ужас у сограждан, но и сам человек, запуганный до полусмерти. В любой непонятной ситуации срывается и удирает за границу. Потом возвращается и как ни в чем не бывало занимает руководящий пост.
А еще есть Герман Геринг. На фоне Гитлера и Геббельса он даже смотрится относительно приличным человеком. Но ведь именно Геринг окажется главным палачом Ночи длинных ножей.
Любопытно, что Ларсон рисует его очень инфантильным человеком: «Главное впечатление — довольно жалкая наивность генерала Геринга, демонстрировавшего свои игрушки как большой, толстый, избалованный ребенок: свои первобытные леса, своих бизонов и птиц, свой охотничий домик, озеро, пляж, свою «личную секретаршу»-блондинку, мавзолей жены… А потом я вспомнил, что у него есть и другие игрушки, не столь невинные, зато летающие, и что однажды он может отправить их в смертоносный полет, руководствуясь такими же детскими капризами и с таким же детским восторгом». У одного из самых недооцененных современных романистов, историка по образованию Владимира Шарова (1952–2018) есть эссе об инфантилизме тиранов. Очень созвучное этому отрывку. Граждане в руках диктатора оказываются игрушками, утрачивая всякое сходство с живыми существами: наскучивших можно, например, убрать в концлагерь, а других — сделать солдатиками и воевать ими. Главное, чтобы жизнь не сопротивлялась.
Несмотря на яркие образы, «В саду чудовищ» всё-таки сложно читать как роман. Скорее это исследование или размышление, облеченное в увлекательную, но слегка суховатую форму. Возможно, дело в самом документальном характере текста. Автор оказывается в жестких рамках и вынужден очень осторожно додумывать своих персонажей. Из-за этого всё время кажется, будто что-то важное о них недосказано, — и даже не словами. Уильям, Марта, все остальные выглядят скорее хорошо сохранившимися фотографиями, чем людьми. Тем не менее наблюдать за их жизнью интересно. Следить — не проживать вместе с ними. «В саду чудовищ» — пожалуй, роман для думающего, но не слишком эмоционального читателя.
Однако в этой «недовоплощенности» героев тоже есть свой смысл. Так смотришь на черно-белые портреты репрессированных, пытаясь по лицу понять, кем были эти люди и на каком отрезке пути оборвалась их жизнь. Марта Додд, приехавшая в Берлин с отцом, мечтала стать писательницей. Она действительно написала несколько книг, но сосредоточиться на литературе так и не смогла. Подавленное состояние Уильяма Додда, который с каждым годом всё сильнее ненавидит Гитлера, но не может ему помешать, скажется на его некрепком здоровье. А как там «Старый юг» — многотомный научный труд, дело жизни?..
Одно из главных мест действия романа — берлинский парк Тиргартен. Там назначают встречи и прогуливаются герои Ларсона. На последней странице, уже после библиографии, писатель оставил цитату из послевоенного романа Кристофера Ишервуда: «Я брел через покрытый снегом пустырь на месте Тиргартена, натыкаясь то на разбитую статую, то на саженец». А потом добавляет: «Такое может случиться с любым городом, с любым человеком, с тобой».
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.
Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]
Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».