
Перед отъездом в США я начал продавать книги. Успел продать собрание сочинений Солженицына и Довлатова. За Довлатовым, помню, пришел какой-то ошалевший парень и забрал «митьковский» четырехтомник со словами: «Я только «Зону» читал, хочу еще». Позавидовал. С грустью проводил его, глядя, как он уносит мой довлатовский «кирпич» под мышкой.
Один такой же том, только первое его издание, мне еще в универе давала читать редактор университетской газеты Людмила Кириллова, с которой мы часами обсуждали Довлатова же, заедая разговор ее бутербродами с копченой колбасой, пока я прогуливал пары. Этот томик с рисунками Флоренского я вернул ей, уже когда ее уволили из университета, а из газеты, где я печатал свои первые нерешительные публикации, сделали пиар-листок.
Кириллова уйдет из жизни где-то через год после увольнения. Мне почему-то не хотелось возвращать этот томик, будто я пытался оставить что-то на память о ней. Даже не помню, читал ли я его в итоге, но впоследствии успел рассказать в двух словах о той университетской газете студентам, у которых с горем пополам преподавал три года, завершая последние два курса через Zoom уже в эмиграции, пока этим летом не пришло сообщение:
«Добрый день, Сергей. К сожалению, университет не пригласит Вас в этом году читать курсы студентам-журналистам. У меня нет полномочий выступать от лица Института филологии или кафедры: я рядовой преподаватель. Но в качестве куратора журналистских программ хочу поблагодарить Вас за интересные занятия со студентами. Иногда они жаловались на Вас руководству, иногда, наоборот, восторгались».
Вырученных за четырехтомник Довлатова денег мне еле хватило, чтобы вылечить ползуба. На вырученные от продажи собрания сочинений Солженицына деньги я собирался вставить швейцарский зубной протез, да уже не смог за ним вернуться, хотя мне даже назначили прием на двадцать какое-то ноября 2021 года.
***
Поезд метро по седьмой ветке везет меня в Квинс. В поезде люди с разным цветом кожи, с разным разрезом глаз говорят на разных языках и думают разные мысли. Почти все смотрят в экраны смартфонов. На горизонте зубцами расчески торчат небоскребы январского Манхэттена.
В Квинсе мимо авеню Коммерции и авеню Прогресса слева и сквера Человеческого духа справа, оставляя по правую руку весь земной шар, под непрестанно плывущими по небу самолетами, наполненными людьми, мимо голых деревьев с опавшими листьями, под холодным сильным ветром я добираюсь на кладбище.
В кладбищенской конторе мексиканец с торчащей из-под маски козлиной бородкой спросил фамилию, имя. Я сказал, полагая, что он просто не услышал: Сергей Довлатов.

Могила Сергея Довлатова на кладбище Маунт-Хеброн в Нью-Йорке, 26 июля 2010 г. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
— Еще раз. Фамилию, — попросил он.
— Довлатов, — ответил я.
Он что-то поискал в компьютере.
— «Д» как Дэвид?
— Точно.
— Дальше.
— «Д», «О», «В».
— Виктор, да? «В»? Ок, я нашел. Сейчас я распечатаю карту. Вот, смотрите, пойдете сюда, повернете направо по центральной аллее, один-два-три, и там будет то, что вы ищете.
И я вышел. Повернул направо. Слева на лугу мирно гоготали здоровые жирные утки. Низко над кладбищем плыл синий самолет. Ну и где эта Middle road к могиле знаменитого русского писателя? Одного из многих. Неприметно лежащего на территории одного из блоков, отмеченного на карте, распечатанной на белом листке А4 мексиканцем. Странно, я всегда думал, что в Америке преимущественно используют бумагу цвета слоновой кости. Чертов Голливуд.
Я вспомнил, как мы с бывшей женой спорили рядом с ее работой о предназначении. Я говорил, что есть писатели, художники, знаменитые, в общем, люди, такие важные для этого мира. А она говорила, что есть люди, ничем не примечательные. Которые тихо делают свою невидимую работу. Орут вечером на детей. Просыпаются рано утром в одно и то же время. И на них держится мир. Жена разозлилась, вышла из машины под зимний карельский ветер.
— Я пошла жить свою обычную жизнь, пока ты сидишь тут и думаешь о вечности, — сказала она и хлопнула дверью.
…Кладбище Маунт Хеброн уравняло всех. И поставило точку в нашем споре.
Name of decreased: Sergei Dovlatov
Organisation: Ah Schliemann Winitze
Block 9. Ref.: 20. Sec: H. Line: 14 Grave: 4.
Я отбрасываю тень на памятник. Замечаю это. Пугливо отхожу в сторону, пропуская солнце. Звонит мой приятель:
— Ты где?
— На кладбище.
— Место подыскиваешь? Здесь умирать дорого.
— Иди в жопу.
Ряд совершенно одинаковых памятников, даже не ряд, а ряды, бесконечные. И где-то в глубине, спрятанный за кустом скромный камень. Узнаваемый дизайн, но память не выдает стиль. Я закуриваю. Размышляю. С косяком в зубах, который подарил мне мой сосед-гей. И среди многих камней, оставленных на памятнике, оставляю свой. Уже пожелтевший. Маленький. Выловленный в карельском озере.
Так крошечная песчинка со дна озера, случайно выброшенная на берег, была выловлена ее рукой, подарена мне с пожеланием удачи, пересекла океан и осталась на гранитном памятнике на другом континенте какой-то холодной точкой, затерявшись среди многих, прилетевших сюда из далекого космоса.
— Ничего не значащая деталь, — сказала тогда она.
В Форест-Хиллс медленно-медленно катит по улице коляску сгорбившаяся старая женщина в шапке и натянутом до глаз шарфе. Широкая блондинка с русским лицом катит каталку. Перекликаются вывески на китайском, русском, английском, иврите. Людей почти нет. Только женщина перед подъездом курит и одиноко рассказывает по телефону:
— Температура поднимается. Мы спим в одних трусах. Он спит в одной футболке. Представляешь?
В лавке с надписью «Покупаем всё» собирается домой мужик-армянин среди самоваров, русских компакт-дисков и еще какого-то добра. Пусто, тихо.
Спальный район Форест-Хиллс такой же, как любой спальный район Москвы или Петербурга. Однотипные дома, построенные лет двадцать назад. Однотипные улочки. Переполненные автобусы. Уставшие люди в них. Окна, балконы, окна, балконы, окна, балконы. Только в здешних подъездах куда чище, чем в подъездах Бруклина или даже Манхэттена.
На этаже, где жил Довлатов, синим скотчем приклеена табличка, предупреждающая: «Sexual attack in elevator». Другая сообщает, что в лифте моет уборщица по фамилии Gotham.
Довлатов писал, глядя в окно этого дома, выходящее на кладбище, где он будет похоронен. Так написал какой-то блогер, пытаясь выразиться изящнее. На самом деле от его дома до кладбища пролегает огромный парк, шоссе и несколько кварталов домов, и пока я дошел от кладбища до его дома, стемнело.
По дороге я зашел в Golden Corner Noodles, поел лапши с говядиной. Поперся дальше в Форест-Хиллс, отлил под навесом автострады, где мелькают тени то ли бездомных, то ли наркоманов, и меня отпустило, а была чертовски неплохая дурь. По крайней мере, когда я спросил моего соседа-гея, он сказал: «О, она крутая», — и поднял глаза к потолку. Его маленький пудель звякнул нашейным колокольчиком, словно подтверждая слова хозяина, с которым этот маленький курчавый пес с мудрыми глазами чертенка целыми днями сидит в накуренной комнате, а дурманящий запах из нее окутывает всю квартиру в Вильямсбурге. Так что пес, может, и знает толк, но так или иначе, окно, выходящее на кладбище, притянуто за уши.
— Ты знаешь, что такое папиросы? — спросил я своего соседа.
— Нет.
— Это такие русские сигареты с длинным толстым фильтром. Очень крепкие, для сильных духом.
— А, интересно.
— Так вот, когда папиросы были популярны, были разные марки папирос. Но была одна, которая дошла до наших дней и которую мы потом использовали для закручивания косяков. Это «Беломорканал». Слышал о таких?
— Кажется да, но я не уверен.
— Так вот, Беломорканал — это канал, который в Советском Союзе строили лопатами и кирками заключенные ГУЛАГа. Ты знаешь, что такое ГУЛАГ?
— Да, кажется, да.
— Это система лагерей в Советском Союзе. И вот заключенные ГУЛАГа строили ББК. Заключенные Белбалтлага. В невыносимых условиях. Миллионы людей погибли при строительстве канала. Представляешь? И мы, молодые пацаны в России 90-х курили траву и использовали папиросы «Беломорканал», выпущенные с гордостью за человеческий дух, провозгласившие победу над стройкой века. Мы курили и даже не задумывались о том, что такое Беломорканал. Для нас «Беломорканалом» были картриджи для травы. Не более. Представляешь?
— Да. Это чертовски невероятно звучит.
— Это Россия.
Он включает своему пуделю релаксирующее видео со звуками леса, в котором что-то бесконечно жрут бурундуки. Я иду в свою комнату. На днях должно сильно похолодать. Лишних денег у меня нет, и все же я заказываю с хорошей скидкой свитер. Заказ должен прийти утром. Его оставят на лестничной клетке среди множества коробок с полосой, символизирующей улыбку, — рядом с батареей, на которой я нашел заляпанные краской Тимберленды на размер меньше, чтобы не замерзнуть зимой.
***
Как-то в Вашингтоне я ждал поезд, расковыривая телефон до цифровых дыр. Ко мне подошел мужчина в толстовке, с капюшоном на черноволосой башке, на лице маска. Начал много и быстро говорить, чуть смущаясь повторять заученный текст с лицом кассира в Макдоналдсе: «Братан, извини, пожалуйста, я живу в Ди-Си последние пару лет и мне приходится жить на улице, ты понимаешь, братан, сейчас выпал снег, и на улице довольно холодно, приятель, и мне приходится искать хоть какие-то средства для существования, может, братишка, ты мог бы мне помочь, чем сможешь, по-человечески?»
Я с неподдельным вниманием выслушиваю его треп и отвечаю: «Слушай, я только что приехал из России, и сам в жопе». И развожу руками. «Прости, брат, все понятно», -отвечает он и тут же уходит. Чуть настоять, и он сам чем-нибудь со мной поделился бы.
Я — фигурка. Вроде той, с которыми играют дети. Коллекционная фигурка из лимитированной серии «Российский журналист в XXI веке» №2/37. В зеленом жилете со светоотражателями, надписью «ПРЕССА» на спине по ГОСТу и защитной маске. В комплекте редакционное задание, бейджик, просроченное удостоверение Союза журналистов России. Пара-тройка хронических заболеваний, алкоголизм и другие зависимости и созависимости в анамнезе, проработанная детская травма, непроработанное ПТСР. Мне где-то между тридцатью и сорока. Я потрепан лет на восемьдесят. Я покупаю в магазине обезжиренный кефир, чтобы улучшить пищеварение.
Но я хотя бы не однообразная фигурка из детского набора солдат-красноармейцев, которые у меня были в далеком детстве, пока я не увлекся воинами с других планет. В старых советских наборах обязательно был офицер-чекист. Такой же, похожий, в кожанке и фуражке смотрит на меня со старинной фотографии глазами прадеда.
Забавно, но когда-то мне предлагали служить в ФСБ. Все мои одноклассники об этом мечтали. В военкомате меня хотели отправить в войска ФСИН. Охранял бы зеков, написал бы потом что-нибудь стоящее. Как Довлатов. Имел бы пенсию через 12 лет службы, а не в 65. Полный соцпакет: стабильная зарплата, бесплатное обучение в вузах ФСИН для себя и детей, отпуск 40 дней, компенсация на съем жилья. Стабильность.
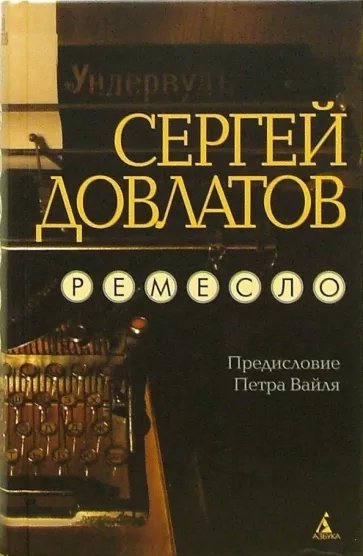
Обложка книги Сергея Довлатова «Ремесло». Источник: labirint.ru
Моим первым прочитанным текстом у Довлатова было «Ремесло». Не лучший у него, менее литературный, более журналистский по уровню фиксации реальности, что ли. Маленькая бумажная книжка из серии «Азбука-Классика»: обложка с зеленой полосой, под ней — будни русского эмигранта в Америке, перемежаемые буднями лежания на диване. Кто бы знал. Представлял я себе все это немного иначе — на Довлатова наслоились фильмы Спайка Ли и чьи-то еще про Нью Йорк, про тот, где фильмы снимают, а не тот, куда отправилась интеллигентская часть советских иммигрантов, не желающих ассимилироваться в Брайтоне, вместе с Довлатовым.
Я так и не понял, где Довлатов жил до своего последнего места в Форест-Хиллс. Спросить не решился, хотя дважды топтался перед дверью его квартиры, за которой раздавался резкий женский голос, в котором слышалась по меньшей мере эпоха. Потом подумал, оглянулся на свои десять месяцев в США, матрас вместо дивана, косяки вместо водки, бичпакеты вместо консервов, порядка десяти мест, где я жил, и вопросы отпали.
С вопросами разрушился миф. Потому что в России с детства фамилии великих произносятся придыханием. Великим все прощается. На какой-то экскурсии рассказ о том, как Цветаева бросила свою дочь, экскурсовод закончила словами: «Не будем судить великих», — пока автобус полз в пробке по старой Москве.
О Довлатове в Форест-Хиллс напоминает только зеленая табличка — под другой табличкой с названием улицы на перекрестке, мимо которой я прошел раз пять, прежде чем упереться в нее, совершенно обалдев, да маленький квадратик «E. Dovlatova» на домофоне.
О том, что в нескольких домах от места, где я сейчас живу, жил Иосиф Бродский, скажет только случайно встреченный на крыльце дома сосед, бывший его соседом, и, если повезет, могу рассказывать я — до тех пор, пока меня не выселят из квартиры через американский суд.
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.
Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]
Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».
