Анатолий Белый был одним из ведущих актеров МХТ имени Чехова, в числе его ролей — Мастер в «Мастере и Маргарите», Лаевский в «Дуэли», Каренин в «Серёже», Катуриан в «Человеке-Подушке», Хлудов в «Беге». В новом сезоне его заменят другие актеры — в частности, худрук театра Константин Хабенский. Известно об этом стало 14 июля, в день ракетного обстрела Винницы. Тогда же Белый написал у себя в Фейсбуке о том, что он «ушел из театра и вообще отовсюду»: «Сегодня с утра ракета упала в Виннице. Погибли взрослые, дети. Я родился в Винницкой области. С 24 февраля у меня внутри огромный камень, он давит и сердце мое болит каждый день. Нет войне».
Он доиграл все спектакли в сезоне и уехал из России. «Потому что больше не могу оставаться в стране, которая ведет подлую, неправедную, страшную, кровавую войну, — написал Белый. — Не могу делать вид, что ничего не происходит, не могу видеть смеющихся в летних кафе людей, не могу слышать веселую музыку, льющуюся из открытых дверей. Не могу больше молчать… Наверное, меня можно назвать пораженцем. Но я, правда, думаю, что мы проиграли в этой битве. Мы — это культура, это те, кто думал и надеялся на демократическое развитие своей страны. Нас мало. И нас можно сдуть с лица земли и истории очень легко. Мы не нужны России. Очень жаль. Потому что в России большое количество прекрасных людей. Красивых людей. Но тьмы больше…»
«Новая газета. Европа» поговорила с артистом.
— Вы рассказали о том, почему решили уехать из России. Но от чего вы ехали — и к чему? Что вы рассчитываете найти там и что оставили здесь?
— Уехал я от тотальной несвободы в России. То есть тут даже полутонов нет, свободы просто нет. Я уехал от этого страха, в котором жили всю жизнь мои родители и который видел я в детстве. Это такой советский липкий страх, в котором люди уже живут снова. Гайки закручиваются всё сильнее и всё несправедливее. Общество стремительно приближается к тотальной диктатуре. Вот от этого я и уехал. Чтобы оставшуюся часть отмеренной мне жизни прожить так, как я хочу. Чтобы мои дети были людьми мира, а не законсервированными на одной территории с постоянным ощущением того самого страха.
Страх — это для меня ключевое слово. Я не хочу жить в страхе. И я не хочу, чтобы мои дети жили в нем.
Что касается того, к чему я хотел приехать, то чёткого понимания у меня нет. Я не знаю, что будет здесь, в Израиле, куда я приехал, или в какой-нибудь другой стране, где я могу оказаться. Не знаю. Но здесь я, по крайней мере, не буду бояться за свою жизнь, за свою свободу. Я не буду бояться, что завтра ко мне придут и отправят за решетку просто за то, что я говорю правду. Не буду бояться, что мне начнут диктовать, что мне делать, а чего не делать. Я буду жить там, где, по крайней мере, смогу спокойно говорить.
— Разве у вас не было достаточно свободы в театре?
— У меня в театре было достаточно свободы. Но разве театром моя жизнь, мое существование ограничивается? В том-то и дело… Поймите, что я никого не осуждаю, никого не сужу, я просто выбираю, раз уж у меня есть возможность выбора. И я не могу выбрать жизнь в коконе театра, закрывшись от остального мира и говоря, что я занимаюсь искусством, поэтому не трогайте меня. Я так не могу, не хочу и не буду — даже при моей огромной любви к Московскому художественному театру. Для меня это огромная потеря и огромная боль. Но жить так я не могу.
— У вас и с худруком театра Константином Хабенским было полное взаимопонимание.
— И я хочу сказать о своем безмерном уважении к нему. Костя всегда был очень порядочным человеком, я его и с этой стороны прекрасно знаю. Мы все знаем, как он занимается благотворительностью — мощно, мощнейшим образом. Когда мы с ним прощались, он сказал мне такие слова — это его, если можно так сказать, жизненное кредо: давай сделаем так, чтобы при встрече через пять, десять, пятнадцать лет нам нестыдно было смотреть друг другу в глаза. Это лучшее, что человек мог сказать. Он всё понял.
— А как вы с ним прощались? Когда вы сказали ему, что хотите уйти, и как он это принял?
— Разговор у нас произошел задолго до конца сезона, ещё в марте, наверное. Я сказал ему, что больше не смогу здесь жить и по-прежнему существовать, я буду уезжать. Сказал, что не рву ничего сейчас, я обожаю театр и не буду его подставлять, уехав резко. Хотя очень хотелось это сделать, ещё 25 февраля хотелось просто собрать чемоданы и уехать из этого ада, из этого… В общем, мы договорились, что я до конца сезона дослужу, доиграю, мы вместе будем думать о составах, о том, кто бы мог меня заменить в моих ролях. Он с пониманием отнесся. И в конце, уже перед самым финалом, на последнем моём спектакле — «Бег», он зашел ко мне в гримерку и сказал: «Толь, знай, что двери этого театра для тебя всегда открыты, если что-то изменится, этот театр тебя всегда примет». Для меня это, конечно, очень важно.
— Я где-то даже читала комментарий театра в таком духе, что Анатолий Белый отсутствует временно. Хотя в составе труппы на сайте театра вашего имени уже нет.
— Думаю, что это чья-то формулировка, она не исходит из театра.
— Или в театре считают, что вы вернетесь.
— Не знаю.
— Все-таки актеры — люди в определенном смысле особые…
— Чем?
— Профессией. В этом смысле в наших с вами профессиях есть что-то общее: нам не надо выходить с плакатом на площадь, чтобы высказаться, мы можем делать это на работе.
— Со сцены, вы хотите сказать? В ролях?
— И со сцены, но не только. Вы же стихи какие читали, это еще какое высказывание. Чего стоит одно ваше «Письмо генералу Z» Бродского.
— Да, я понимаю, о чем вы говорите. И до войны, до катастрофы, наверное, это имело какой-то смысл. Хотя сейчас у меня очень пессимистические взгляды в принципе на человека. На человека как такового, на его природу, на жизнь. Что такое — я? Песчинка. Ну, играл я эти роли. Читал эти стихи. Я высказывал свое мнение, когда это было возможно еще. Со сцены высказывал. В ролях, не в ролях. Как человек, как гражданин. И что?
Ладно — я, но ведь титаны мысли, огромные личности, историки, философы, художники огромного масштаба, режиссеры, кинорежиссеры, имеющие огромную аудиторию, мы все что-то делали. Мы о чем-то говорили. Мы выходили на Сахарова. На Болотной меня, к сожалению, не было, я примкнул только на Сахарова. Ходили мы туда, пока было возможно. И что?
А мысли какие были высказаны! А Сокуров! И — что? Ни-че-го. Ничего не помогло.
Человеческий разум, всё разумное и доброе в человеке — всё сметено одним ударом бессознательного, звериного. Ударом этой второй, обратной стороны человека.
Этот «зверь» в одну минуту побеждает всё доброе и вечное — и ничто ему не может противостоять. «Зверь» — это я имею в виду природу человека, всё низменное, что в нас есть. Он настолько силён, этот «зверь», что никакая вера, никакая религия, никакие боги не спасают. Он так овладевает умами людей… Мы же видим весь этот ужас — как завладела людьми пропаганда, что она с ними сделала. Люди просто ослепли, это какая-то непостижимая слепота. Непостижимая. Не укладывается у меня в голове, как это возможно. Но мы стали этому очевидцами. И о чём тут говорить, какая сцена? Что мы там лепечем? Это, как мы теперь видим, не имеет никакого смысла.
— Если так это воспринимать, то смысла вообще ничего не имеет. «Письмо генералу Z» Бродского вы впервые лет восемь назад прочитали, а волосы дыбом от него заново встают с 24 февраля этого года.
— А Бродский написал это стихотворение вообще в 1968 году после ввода советских танков в Чехословакию. Потом всё это вернулось после вторжения в Афганистан. И вот теперь… Это колесо. Я убеждён, что это даже не спираль, это колесо. История в России не развивается, меняется только внешняя атрибутика. Мы ездим на машинах, у нас в руках айфоны, мы иначе одеваемся, но всё повторяется, как в колесе.
— Но это же не значит, что не надо было такие стихи читать?
— Нет, конечно, я понимаю, что надо что-то делать, что говорить надо, что вода камень точит — но у меня сейчас такие пораженческие настроения. Это замкнутый круг. Ровно сто лет назад, в 1922 году, Марина Цветаева покинула Россию. Я ни в коей мере не провожу параллель, не поймите так, я не ставлю себя рядом с ней. Я говорю о хроносе, о том, что сто лет назад — массовый исход русской интеллигенции после революции, и что мы имеем в 2022 году? Всё то же самое.
— Вы ведь наверняка знали, что я буду спрашивать про спектакль «Бег».
— Наверное, да, знал.
— В какой-то степени вы оказались внутри этого спектакля, только уже в собственной жизни.
— Я не люблю таких аналогий. Ни для себя, ни для других.
— Да как же без таких аналогий? Когда-то Марине Цветаевой, о которой вы вспомнили, Анна Ахматова сказала о поэме «Молодец»: «Разве вы не знаете, что в стихах всё — о себе?»
— Ну, конечно же, конечно… Это такая оказалась, к сожалению, провидческая история. Но это уже гений Михаила Афанасьевича, он так написал это, так проник в суть этого исхода, этой истории. Конечно, Хлудов — совсем другой человек, он военный, человек действительно жестокий. Он намного более обугленный, чем я, обожженный. И разум его помутился, как пишет Булгаков. Наверное, в целом «Бег» — это как кусок зеркала, в котором отражено всё происходящее с людьми. Но не стоит здесь говорить только о Хлудове.

Фото: Facebook
— Давайте говорить о приват-доценте Голубкове, о Серафиме Корзухиной.
— Да, например, о нём и об этой несчастной женщине, преданной и брошенной. Или о Корзухине — мы видим таких Корзухиных сейчас. У эмиграции много ипостасей, это такой калейдоскоп. Кто-то возненавидел Россию, кто-то приспособился и сказал: мне пофиг, я увожу свои деньги, буду курить на пляже. Кто-то говорит о гражданской позиции — и уезжает с одним чемоданом в руке, взяв в охапку что-то из прошлой жизни. Все уезжают по-разному. Этот исход — он очень многолик. Потому-то Булгаков и гений: он взял эти типажи разного исхода, но это всё — мы.
Да, вы правы, мистицизм Булгакова поражает: что это, провидческий гений или совпадение? Последним спектаклем в Московском художественном театре, в котором я вышел на сцену, прежде чем уехать, был «Бег». Это был мой последний спектакль. Последний. До этого я отыграл последнего «Мастера…», последнего «Серёжу», а «Бег» был ровно накануне моего отъезда. То есть 30 июня я играл «Бег», а 4 июля у меня был самолет.
— Я не видела, к сожалению, ваш «Бег», но хорошо помню пьесу. Последняя ремарка в ней после слов Хлудова «паскудное царство, тараканьи бега» — пускает себе пулю в лоб.
— У нас в конце герой говорит ровно теми словами, которыми и я мог сказать в жизни: «Не вернется ничего. Всё кончено, лгать ни к чему, так унесём же с собой всё это».
— Прожив этот спектакль, вы наверняка и себе как-то представляли, что ждет вас в эмиграции. Вам не страшно было уезжать в это?
— Нет, страха никакого не было. Наоборот, повторюсь, я бегу от этого страха. Я от него ухожу. Здесь, в Израиле, при всей неясности и призрачности будущего, не страшно. К моменту отъезда мое разочарование в том, что я делал все эти годы, дошло до такой степени, что я готов был заниматься в Израиле чем угодно. Чем угодно. За актерство я не держусь.
— Не держитесь за актерство?
— Нет. Совсем нет. Поверьте, это не кокетство, не поза.
— Я бы скорее приняла за позу слова вроде «жить не могу без театра».
— А я могу жить без театра. Не знаю, к сожалению это или к счастью, я это говорю безоценочно. Не знаю, хорошо это или плохо для актера, но я могу жить без театра.
— А вы пробовали?
— Периодически в своей жизни я уходил из спектаклей. И делал это довольно регулярно.
— Вы работали в МХТ последние 20 лет.
— Да-да, но я уходил из спектаклей внутри театра. Как только я чувствовал, что внутри что-то разрушилось, что спектакль превращается в тяжелую повинность, что внутри уже ничего нет, я уходил. Так я ушел в свое время из «Белой гвардии». Мы довольно долго играли этот спектакль. Я ни в коем случае не сужу и никого не осуждаю, я только говорю о том, что происходило. У Сергея Васильевича (Женовача, постановщика «Белой гвардии» и «Бега» в МХТ им. Чехова, — И.Т.) возник через какое-то время свой театр, он должен был его строить, и его внимания, конечно, не на нас хватало.
Спектакль стал разрушаться, он стал не тем, каким должен быть. У меня в таких случаях на каком-то физическом уровне происходит блокировка, я больше не могу играть.
И я сказал: ребята, простите, но я больше не могу, потому что это уже совсем не то, что придумывалось.
— Так это не вы ушли из спектакля, это спектакль ушел от вас. При этом у вас были другие спектакли, в профессии вы оставались.
— Да, наверное, так.
— В том-то и дело, что я вас не представляю вне этой профессии, а вы говорите, что и без неё проживете. Вот как вы это себе представляете?
— Так я ведь из профессии все-таки никуда пока и не ухожу. На сегодня у меня в Израиле есть уже три театральных предложения. Я прислушиваюсь к себе и пытаюсь понять, что мне хочется делать дальше. У меня и к преподаванию душа лежит, я знаю, что могу и люблю это делать. Я давал мастер-классы в Москве, у меня в роду все педагоги. Может быть, потихоньку уже как-то и режиссура… Все-таки уже пришло, наверное, возрастное желание сказать нечто большее, выразиться как-то по-другому. Так что я говорю только о том, что не закрываю себя. Я не говорю, что я актер — и все. Можно делать ещё что-то, но посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я прислушиваюсь к себе. Разговоров вокруг много, но что из этого выкристаллизуется — посмотрим.
— Когда вы написали о том, почему уезжаете, у меня было ощущение, что вы приняли решение после обстрелов Винницы. Теперь я знаю, что вы к этому времени уже были в Израиле. Но вы ведь, действительно, родились под Винницей. Что-то ещё в вас изменили эти страшные сообщения?
— Я родился в Винницкой области, в поселке Брацлаве. И в детстве я там проводил все летние месяцы. Но что ещё могли изменить эти сообщения? А до Винницы что происходило в Украине? Да, я уже был здесь, в Израиле, но эти сообщения меня словно заново перепахали. Я и не собирался скрываться в кустах, я не для того уезжал, чтобы помалкивать, прятаться и рассказывать, что я тут на отдыхе. И я собирался с духом, с мыслями, чтобы как-то все это сказать. Это нужно было сделать. Но с утра увидел новость о Виннице — и меня просто вышибло в очередной раз. Вот тогда я сел и написал — одним махом.
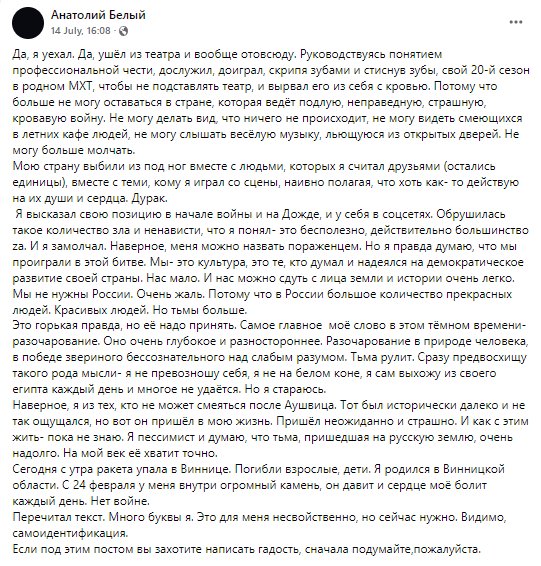
Запись Анатолия Белого в Facebook. Скриншот
О том, что происходит в Украине, я даже говорить не могу. Украина — действительно, моя родина. Так случилось. Хотя родился я там, можно сказать, случайно. Родители уже жили в Тольятти, а мама, школьная учительница, в отпуск уехала к своей маме, будучи беременной. И все ждали, что я должен родиться ближе к концу августа, но получилось чуть раньше. Поэтому в свидетельстве о рождении у меня стоит Брацлав Винницкой области. Тогда это была одна страна, и не было какой-то разницы.
По жизни так получилось, что всё лучшее, всё самое прекрасное, что со мной происходило в детстве — это был Брацлав. Заканчивался учебный год, мама брала чемоданы, рюкзаки, нас в охапку — и мы на три месяца уезжали в Брацлав. И тот океан любви, который я получал от родителей, от бабушки с дедушкой… Потом мы обычно ехали ещё на какое-то время во Львов — к бабушке по папиной линии. Все лето я проводил в Украине.
Так сложилось, что город Тольятти не стал для меня родным. Там всё было какое-то не моё, там не за что было зацепиться. Не мой это город, и ничего с этим я не могу поделать. Если спросить меня о родине, то я скажу — Брацлав.

Фото: Facebook
— Люди эмигрируют по-разному, и я знаю тех, кто хотел бы, уехав, жить так, как будто этой страны нет на карте. После 2014 года, честно скажу, и у меня возникало именно такое желание. Как вы будете дальше воспринимать Россию? Вы, например, новости о России читать будете?
— Да. Конечно, несомненно. Я читаю и буду читать о России.
— Зачем?
— Да-да, я понимаю, о чём вы спросили. Сейчас попробую ответить… Недавно мы говорили с Дмитрием Крымовым (постановщик спектакля «Серёжа» в МХТ им. Чехова, — И.Т.). Мы с Димой часто общаемся по телефону, чтобы как-то поддержать друг друга, и все эти вещи проговариваем. И вот он сказал фразу, которая мне очень запомнилась: «Самое главное для нас — не превратиться в собак, которые перелезли через забор и гавкают». И это, действительно, самое главное. Какой точный образ он нашел! У меня к России целая гамма чувств, может быть, то, что я скажу, вам покажется потоком сознания…
Ну, вот смотрите. Я говорю, что Брацлав — это детство, это моя родина. И это Украина. Всю школу я отучился в Тольятти. Там обстановка была очень агрессивная, я там просто выживал. Если бы не занимался спортом, а был на улице, то неизвестно еще, где бы оказался. Половина моих одноклассников уже давно лежат на кладбище. И из этой агрессивной среды я буквально вылетел, как только окончил школу, поступил в институт в Самаре (в Куйбышевский авиационный, — И.Т.).
Потом я поехал в Москву. Это были осознанные поступки, я понимал, что стремлюсь к чему-то другому. Мне нравилась культура. Мне нравилось жить среди хорошей архитектуры, а не в этих коробках. Поступил в театральное училище в Москве. И я чувствовал себя в своей тарелке. Все эти годы я обожал Москву, это мой город по всему. И работа — театр, творчество, — всё это оказалось вместе, вкупе. И я знаю, что в Москве, в России огромное количество прекрасных людей. Талантливых, прекрасных, добрых, умных, образованных, просто их оказалось недостаточно, они ничего не смогли сделать.
Поэтому сейчас у меня смешанные чувства. Мне больно.
Наверное, это самое главное слово: мне больно от того, что сейчас происходит. Мне больно за людей, которые остались в России.
За этих прекрасных людей, моих друзей и знакомых, которые не имеют выбора, поэтому остались там. И я не знаю, что с ними дальше будет, как они будут дальше жить.
— Вы любите эту страну?
— Я люблю людей. Что такое страна? Это же люди. У нас такая подмена произошла… Страна — не власть, это люди, это города, где люди живут, это природа. И люди замечательные. И я ни в коем случае не превращусь в собаку, которая забежала за угол и гавкает. Я не буду повторять эти ужасные слова — «Рашка» и прочие. Я очень слежу за тем, чтобы не начать говорить, что одни люди лучше, другие хуже, выше, ниже.
Для меня Россия — это… Знаете, такая странная ситуация: у меня две родины. Я до сих пор внутри себя этого не сформулировал. Как, может быть, две мамы. Или как одна волчица — и два соска. Черт его знает, как это определить, у меня внутри все эти чувства сейчас смешаны. Но Россия для меня такая же родина, как Украина. И то, что происходит между Украиной и Россией, разрывает меня на части. Мы же, действительно, были братскими народами.
— Были. Но очень долго теперь не будем.
— Это просто открытая рана. Я не понимаю, как с этим жить. Это просто боль. У меня как будто выбили табуретку из-под ног. Выбили из-под ног родину. И я теперь действительно живу «под собою не чуя страны». Из-под тебя выбили страну — и ты висишь в каком-то безвоздушном пространстве. И не понимаешь: а как тебе дальше жить? Но я для себя знаю четко: и Украина, и Россия — это для меня разное, но друг от друга не отделимое. Украина — это как парное молоко в детстве. А то, что произошло…
— Это не произошло. Это сделали сознательно конкретные люди — с именами, фамилиями и должностями.
— Да. Мерзавцы. Это негодяи, люди без души, без сердца.
— У меня есть вопрос, который я смело могу задать как стопроцентная еврейка, нас с вами не обвинят в антисемитизме. О евреях часто говорят, что у нас нет чувства родины, это генетически обусловлено, поэтому мы легко мигрируем из страны в страну. И себя я ловила на том, что вряд ли способна испытывать такую абстрактную ностальгию — как в «Беге». А вы? Вы боитесь ностальгии?
— Вопрос прямо в точку. Нет, я не боюсь ностальгии. Наверное, где-то в глубине души я тот самый «космополит безродный», как говорили в Советском Союзе. Дурацкая формулировка. Но мне комфортно в Европе. Я приезжаю во Францию — и каждый раз у меня словно что-то оттаивает внутри, как будто крылья какие-то вырастают.
Здесь, в Израиле, в Нетании, где мы сняли квартиру, у меня живут мама, папа, сестры, братья, и здесь я тоже ощущаю какое-то возвращение домой. Даже мысли такие мелькают, что, может быть, исторически так должно было сложиться. Я в 16 лет ушел из дома и всю жизнь после этого был таким оторванным ломтем. Наверное, сейчас время вернуться, потому что родители становятся немощнее, я должен быть рядом с ними. Черт его знает, может быть, по какому-то большому плану там, наверху, я и должен был, независимо от чего бы то ни было, оказаться здесь.
Но я не хочу себя нигде запирать. Мне хорошо и в других странах, наверняка я мог бы и там жить. То, о чем я говорю, Брацлав, Москва — это вещи очень сокровенные, они глубоко в душе уже есть, это моя данность, мои столпы. А всё, что будет дальше… Вряд ли я смогу назвать Израиль или какую-то еще страну родиной через 20 лет, вы правы: есть в крови какая-то тяга к перемене мест. Но сокровенное понятие родины — это константа, оно никуда не уйдет, оно внутри.
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.
Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]
Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».

